Всеобщая история архитектуры. Том 11. Архитектура капиталистических стран XX в. Иконников А.В. (ред.). 1973
| Всеобщая история архитектуры. Том 11. Архитектура капиталистических стран XX в. |
| Иконников А.В. (ответственный редактор), Хан-Магомедов С.О., Савицкий Ю.Ю., Былинкин Н.П., Яралов Ю.С., Гуляницкий Н.Ф. (редакторы). Авторы: Воронина В.Л., Гарсиа М., Гроссман В.Г., Иванова Е.К., Иконников А.В., Кацнельсон Р.А., Келлер Б.Б., Кириченко Е.И., Короцкая А.А., Крашенинникова Н.Л., Лазарев Г.З., Лозинская Г.Б., Локтев В.И., Монахова Л.П., Ожегов С.С., Покровская З.К., Полевой В.М., Савицкий Ю.Ю., Самойлова И.А., Самохина Т.Н., Стригалев А.А., Хайт В.Л., Швидковский О.А., Эрн И.В., Яралов Ю.С. |
| Москва. Стройиздат. 1973 |
| 888 страниц |
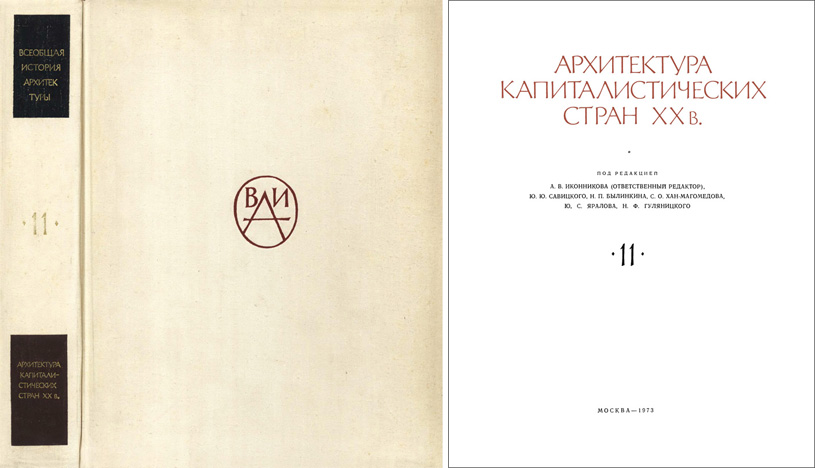
Основные тенденции развития архитектуры капиталистических стран после 1917 г. А. В. Иконников
АРХИТЕКТУРА СТРАН ЕВРОПЫ
Глава I. Архитектура Великобритании. Ю. Ю. Савицкий
Глава II. Архитектура Франции. И. В. Эрн
Глава III. Архитектура Германии. 1918—1945 гг. Б. Б. Келлер
Глава IV. Архитектура ФРГ. Б. Б. Келлер, А. А. Стригалев
Глава V. Архитектура Западного Берлина. Б. Б. Келлер, А. А. Стригалев
Глава VI. Архитектура Италии. Р. А. Кацнельсон
Глава VII. Архитектура Швеции. А. В. Иконников
Глава VIII. Архитектура Норвегии. А. В. Иконников
Глава IX. Архитектура Дании. В. Г. Гроссман
Глава X. Архитектура Финляндии. А. В. Иконников
Глава XI. Архитектура Нидерландов. Н. Л. Крашенинникова
Глава XII. Архитектура Бельгии. Н. Л. Крашенинникова
Глава XIII. Архитектура Австрии. Б. Б. Келлер
Глава XIV. Архитектура Швейцарии. Е. И. Кириченко
Глава XV. Архитектура Греции. В. М. Полевой
Глава XVI. Архитектура Испании. М. Гарсиа
Глава XVII. Архитектура Польши 1918—1944 гг. И. А. Самойлова (с использованием материалов Я. Захватовича, ПНР)
Глава XVIII. Архитектура Чехословакии 1918—1945 гг. О. А. Швидковский (с использованием материалов О. Старого, ЧССР)
Глава XIX. Архитектура Венгрии 1918—1944 гг. Я. А. Самойлова, Т. Н. Самохина (с использованием материалов М. Майора, ВНР)
Глава XX. Архитектура Румынии 1918—1944 гг. Т. Н. Самохина (с использованием материалов Р. Борденаке, СРР)
Глава XXI. Архитектура Болгарии 1918—1944 гг. Я. А. Самойлова (с использованием материалов Й. Йорданова и К. Николова, НРБ)
Глава XXII. Архитектура Югославии 1918—1945 гг. Т. Н. Самохина (с использованием материалов В. Белоусова, СССР, Д. Бошковича, А. Мохоровичича, Ф. Стеле, СФРЮ)
АРХИТЕКТУРА СТРАН СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
Глава XXIII. Архитектура США. Б. Б. Келлер и Г. К. Мачульский
Глава XXIV: Архитектура Канады. Е. И. Кириченко
АРХИТЕКТУРА СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Глава XXV. Архитектура Кубы 1918—1945 гг. К. Н. Красильникова
Глава XXVI. Архитектура Мексики. А. А. Стригалев
Глава XXVII. Архитектура Венесуэлы. А. А. Стригалев
Глава XXVIII. Архитектура Бразилии. В. Л. Хайт
Глава XXIX. Архитектура Аргентины. Г. Б. Лозинская
Глава XXX. Архитектура Чили. Г. Б. Лозинская
АРХИТЕКТУРА СТРАН АФРИКИ
Глава XXXI. Архитектура стран тропической Африки. В. Л. Воронина
Глава XXXII. Архитектура Эфиопии. В. Л. Воронина
Глава XXXIII. Архитектура Южно-Африканской республики. В. Л. Воронина
Глава XXXIV. Архитектура стран Северной Африки. В. Л. Воронина
Глава XXXV. Архитектура Арабской республики Египет. В. Л. Воронина
АРХИТЕКТУРА СТРАН АЗИИ
Глава XXXVI. Архитектура арабских стран Ближнего Востока. В. Л. Воронина
Глава XXXVII. Архитектура Турции. Ю. С. Яралов
Глава XXXVIII. Архитектура стран Среднего Востока. В. Л. Воронина
Глава XXXIX. Архитектура Индии. А. А. Короцкая
Глава XL. Архитектура Пакистана. А. А. Короцкая
Глава XLI. Архитектура Народной Республики Бангладеш. А. А. Короцкая
Глава XLII. Архитектура стран Юго-Восточной Азии. С. С. Ожегов
Глава XLIII. Архитектура Китая 1918—1949 гг. Г. 3. Лазарев
Глава XLIV. Архитектура Японии. В. И. Локтев
Архитектура Австралии. З. К. Покровская
Развитие строительной техники. Е. К. Иванова
Приложения
1. Литература
2. Указатель архитектурных объектов и инженерных сооружений по месту их нахождения. Л. П. Монахова (при участии И. В. Коккинаки)
3. Именной указатель архитекторов, инженеров, деятелей искусств и строителей. Л. П. Монахова (при участии И. В. Коккинаки)
Основные тенденции развития архитектуры капиталистических стран после 1917 г.
Настоящий том посвящен архитектуре капиталистических стран в период общего кризиса капитализма, начало которому положили первая мировая война и Великая Октябрьская социалистическая революция в России. Октябрьская революция была не только русской революцией — ее породил ход развития общества в мировом масштабе. С ее началом человечество вступило в эпоху новейшей истории — эпоху борьбы двух противоположных общественных систем, эпоху социалистических и национально-освободительных революций, эпоху кризиса империализма, крушения колониальной системы, эпоху перехода на путь социализма все новых и новых народов.
Развитие архитектуры в капиталистических странах после Октября 1917 г. шло сложными, извилистыми путями. Направление этого развития претерпевало крутые, на первый взгляд неожиданные изменения, оно расщеплялось на течения, казалось бы несовместимые, образуя калейдоскопически пеструю общую картину. Изменчивость, неустойчивость стали характерны не только для сферы формальных исканий, но и для отношения ко всему комплексу проблем зодчества. Однолинейная «буржуазность» архитектуры периода подъема буржуазии сменилась борьбой социально-противоречивых тенденций, порожденных обострением и усложнением противоречий капиталистического строя.
В последней четверти XIX в. архитектура капитализма была внешне разнохарактерна, но ее пестрота была в значительной мёре порождена художественным методом эклектизма, служившим выражению буржуазной идеологии. По своей направленности архитектура того времени всецело подчинялась интересам буржуазии. Социальные контрасты в застройке быстро разраставшихся городов были обнажены, очевидны. На одном полюсе — выставленная напоказ, преувеличенная, подчас поддельная, роскошь зданий, служивших удовлетворению потребностей господствующего класса, уверенного в своей силе. В них вещественно воплощались его образ жизни, его социальная психология и художественные вкусы. На другом полюсе — неприкрытая утилитарность сооружений, связанных со сферой производства, и построек рабочих окраин, нередко не обеспечивающих даже минимально необходимых условий физического воспроизводства рабочей силы.
Изменившееся в XX столетии и особенно после Октября 1917 г. соотношение социальных сил привело к тому, что эта картина усложнилась. Пролетариат не только вырос количественно, он стал более сплоченным и организованным, осознал свою силу и научился отстаивать свои интересы. Буржуазия была вынуждена маневрировать, идти на уступки, и в архитектуре стали возникать явления, связанные с материальными потребностями рабочего класса, его коллективистскими навыками и социальной психологией. Эти ростки новой архитектуры возникали прежде всего в связи с борьбой за решение жилищного вопроса, который при капитализме неизменно остается одной из самых острых социальных проблем, затрагивающих интересы пролетариата (показательный пример — муниципальное жилищное строительство в так называемом «красном поясе» Парижа). Появляются и типы общественных сооружений, связанные с растущей организованностью пролетариата: рабочие клубы и дома культуры, здания рабочих партий и профсоюзов (среди них столь значительные произведения зодчества, как Дом культуры рабочих в Хельсинки, арх. А. Аалто; здание ЦК компартии Франции в Париже, арх. О. Нимейер). В таких начинаниях используется опыт архитектуры стран социализма, где подобные типы зданий получили широкое развитие.
Разумеется, однако, что потребности рабочего класса не могут получить полноценного и всестороннего отражения в архитектуре капиталистического общества. Буржуазия пытается использовать уступки пролетариату для подавления его социальной активности: им придается форма, при помощи которой господствующий класс стремится воздействовать на образ жизни и психологию рабочих.
В одних случаях принимаются меры для того, чтобы внедрить в рабочую среду специфические элементы мелкобуржуазного быта: так, популяризируется разобщенность, идиллическая замкнутость жизни в обособленных «домиках с садиками». В других случаях жилищное строительство, осуществляемое крупными фирмами для своих рабочих, используется для того, чтобы распространить за пределы предприятия влияние организационной системы, превращающей человека в придаток машины, подчиненный ритму производства. Эту систему стремятся сделать нормой жизни для тех, кто трудится. Человек оказывается всецело привязанным к предприятию, втиснутым в рамки тотальной стандартизации, охватывающей вслед за сферой труда сферу быта и отдыха. В 30-е годы последовательным воплощением такого принципа были поселки и города, создававшиеся в Чехословакии и других странах обувной фирмой «Батя»; фабричные корпуса, жилые постройки, торговые учреждения строились фирмой, принадлежали ей и управлялись ее администрацией (как, например, в «столице» фирмы — г. Злин, Чехословакия). В годы после второй мировой войны подобные эксперименты становятся и шире, и разнообразнее. Иногда они цинично откровенны: таковы полностью подчиненные военизированному контролю, живущие по строго установленному регламенту городки при секретных заводах и научно-исследовательских комплексах США, своего рода «идеальные модели» тоталитарной организации; иногда они искусно маскируются: такова прикрытая демагогией «патернализма» и «народного капитализма» утонченная система всепроникающего контроля на предприятиях итальянской фирмы «Оливетти» и в связанных с ними поселках.
В политических целях — для расслоения рабочего класса — используется и кооперативное строительство, дающее возможность только квалифицированным, высокооплачиваемым рабочим получить сравнительно комфортабельные квартиры, в то время как для низкооплачиваемых рабочих и тех, кто не имеет полной занятости, это совершенно недоступно. Контраст между относительным материальным благополучием части трудящихся и невыносимыми жилищными условиями людей, не имеющих возможности покинуть трущобы и переселяющихся в самодельные лачуги «бидонвиллей» и «сквоттеров» (когда эти трущобы сносят), сохраняется неизменно.
Однако в период подъема рабочего движения в строительстве так называемых «дешевых» домов кристаллизовались черты жилища нового типа — экономичного, обладающего рациональной внутренней организацией, входящего как одна из множества равных ячеек в единый организм многоквартирного дома. В некоторых странах, где рабочие организации обладали достаточной силой, развивались зачатки систем общественного обслуживания и на их основе формировались жилые комплексы, возникали новые типы общественных зданий (характерный пример — жилые комплексы рабочих районов Вены конца 20-х годов).
Говорить о том, что вся в целом современная архитектура Запада определяется прямым противостоянием буржуазного и растущего пролетарского, было бы, однако, непозволительным упрощением.
Типы жилищ, создание которых было результатом борьбы рабочего класса, в значительной мере используют так называемые «средние слои» — мелкая буржуазия и промежуточные социальные группы населения: работники разрастающегося административно-управленческого аппарата, техническая интеллигенция, люди свободных профессий. Количественный рост этих социальных групп в капиталистических странах за последние десятилетия [В США, например, с 1900 по 1965 г. число конторских служащих возросло более чем в 12 раз и превысило 11 млн. человек, а число научно-технических специалистов увеличилось с 1,2 до 8,9 млн. человек. К 1975 г. ожидается рост численности этих категорий работников до 14,6 и 13,2 млн. человек (Statistical abstract of United States, 1967, p. 230).] в значительной мере отразился и на характере жилищного строительства в целом. Коллективистские тенденции рабочего класса сталкиваются при этом с тенденциями индивидуалистическими. Вместе с образом жизни «промежуточных слоев» формируется и связанная с ним архитектура компромисса.
Постройки, предназначенные для удовлетворения потребностей верхушки господствующих классов, становятся все более изысканными и поражающе необычными. «Необычность» выдвигается как форма самоутверждения буржуазной элиты. Однако теперь роскошь жилищ и их подчеркнуто индивидуальный характер служат средствами поддержания престижа владельца в его собственной социальной среде, а не перед лицом всего общества. Представители монополистической буржуазии отнюдь не стремятся демонстрировать «сладкую жизнь» перед трудящимися классами. Не случайно жилища «тех, кто наверху» строятся вне городов или в обособленных фешенебельных районах.
Монополии выступают как анонимные, безликие силы. Тем более значительной для зданий, где размещается их аппарат управления, становится функция престижа. В архитектуре этих построек как бы персонифицируется экономическая и политическая мощь промышленных концернов и крупнейших банков. Офисы становятся не только утилитарными деловыми сооружениями, но и зданиями-символами. Они образуют заметные акценты в структуре города, их облик становится подавляюще монументальным или броско претенциозным.
В эпоху империализма увеличилась роль буржуазного государства. К его традиционным функциям прибавились и новые. В интересах монополий делаются попытки средствами государственного регулирования преодолеть стихийность конкуренции, найти формы целенаправленного влияния на экономические и социальные процессы. Расширение функций государственного аппарата вызывает подъем официального строительства. Возникают не только крупные отдельные сооружения (такие, например, как гигантский Пентагон, где разместилось Военное министерство США в Вашингтоне), но и обширные комплексы правительственных зданий и новые столичные города. Сложился специфический тип столицы, созданной на новом месте, вне среды, «зараженной» застарелыми социальными болезнями, — города правительственных чиновников, не имеющего многочисленного промышленного пролетариата. Таковы Канберра, Бразилиа, Исламабад, Дакка, Абиджан, Нуакшот, Чандигарх (столица индийского штата Пенджаб). Подобный характер получил Бонн, превращенный из небольшого университетского города в столицу ФРГ.
Официальная архитектура наделяется парадной представительностью, монументальностью. Ее монументальность приобретала преувеличенные формы когда буржуазное государство переходило от методов парламентской демократии к открытой диктатуре (Италия и Германия в период фашизма).
Сложность современной архитектуры капитализма определяется не только противоречивостью ее социальных функций, но и тем, что на ее развитие влияет острая идеологическая борьба двух лагерей, на которые разделен мир, равно как и борьба между идеологией буржуазии и крепнущим классовым сознанием пролетариата внутри самих капиталистических стран. Идеологические тенденции находят отражение уже в том, что строится: так, за 14 лет после второй мировой войны в США было построено более 40 тысяч церквей, в Европе строительство культовых зданий заняло место, большее, чем когда-либо со времен средневековья (в 1960 г. в одной только Швеции строилось и проектировалось более 300 церквей).
Не случайно и довольно широко развернувшееся в 60-е годы строительство театральных зданий, концертных залов и помпезных «центров искусства» — комплексов зрелищных учреждений, собранных вокруг одной площади (центры искусства в Лондоне, Нью-Йорке, Монреале и т. д.). Его стимулирует не только прибыльность «индустрии развлечений», но и стремление вовлечь свободное время людей в организованную и контролируемую капиталистическим государством сферу. Как наиболее массовое зрелище используется спорт. Этому служит широкое строительство открытых и закрытых спортивных сооружений с гигантскими трибунами для публики. В то же время появляются и пока немногочисленные постройки, создаваемые пролетарскими организациями, — дома молодежи и дома культуры, клубы, профессиональные школы, помогающие развитию общественной активности трудящихся.
Столкновение идей находит свое проявление в теоретических концепциях архитектурного творчества. Сменяются влияния различных течений и школ идеалистической философии, ставшей формой самосознания класса, идущего к упадку. Неопозитивизм, неотомизм, экзистенциализм оставили свой след не только в теоретических концепциях архитектуры: иногда они получали неожиданно конкретное выражение и в творческой практике, иногда влияли на практику сложно, опосредованно. Однако их влияние не безраздельно. Многие явления в архитектуре новейшего времени связаны со стихийным материализмом, неизбежным следствием научного прогресса, гуманистическими идеями, противостоящими античеловеческим устремлениям реакционной идеологии. Влияние марксизма-ленинизма способствует углубленности анализа социальных задач архитекторами, придерживающимися прогрессивных взглядов.
Неравномерность, цикличность развития капитализма находит свое выражение и в архитектуре. Она отражается не только в количественных показателях строительства, в непостоянстве его объемов и темпа. Она влияет и на направление творческих поисков зодчих, их характер (такое влияние, естественно, является опосредованным и осуществляется подчас путями сложными, неявными); влияет она и на формы взаимосвязи архитектурных школ, на их относительную значимость в общем процессе развития архитектуры XX в.
Калейдоскопическая пестрота конкретных поисков в современной архитектуре Запада определяется, однако, не только социальными противоречиями, неравномерностью развития и идеологической борьбой. Неустойчивость творческих направлений имеет и социально-психологические корни. Ее усугубляет мировосприятие, порожденное отчуждением труда в системе капиталистических отношений. Мир уже не может быть воспринят человеком во всей целостности.
Личное и общественное в капиталистическом мире разделены и противопоставлены одно другому. Общественная жизнь стала сферой принуждения; индивидуальное замкнулось в мирке внутренних переживаний, полном иллюзий. В нем как бы развертывается вторая, мнимая жизнь, отделенная от общества. Человек, утративший возможность проявить свою человеческую сущность в социальном творчестве, в деятельности, в конце концов утрачивает эту сущность как нечто стабильное. Человек все время перевоплощается, лицедействует, он живет жизнью актера, постоянно меняющего роли: одна — на службе, другая — в кругу семьи; одна — в обществе, другая — наедине с собой. Архитектура вместе с другими составляющими предметного мира, окружающего человека, выступает уже не только как средство осуществления реальных жизненных процессов. Она служит и реквизитом, который может придать миру иллюзий видимость реальности, утверждает место человека в обществе, утверждает в конечном счете и его представление о самом себе. Служа реквизитом лицедейства, вещи и сами как бы «играют»; они рядятся в формы, иногда заимствованные из прошлого, и тогда кажется, что можно прикоснуться к романтике или героике этого прошлого; дешевыми имитациями они поддерживают иллюзию богатства; лаконизм и геометричность вещей должны свидетельствовать о трезвости ума и деловитости их обладателей.
Отсутствие целеустремленного сценария в этой игре вещей ведет к эклектизму; возникновение более или менее устойчивого и распространенного стереотипа в представлениях о том, каким должен быть современный человек, — к использованию определенного круга форм (как было в функционализме конца 20-х — начала 30-х годов). Множественность одновременно существующих стереотипов усугубляет пестроту творческих поисков в архитектуре.
Изменения в направленности творчества некоторых мастеров архитектуры XX столетия могут показаться совершенно неожиданными (как, например, переход некоторых ортодоксальных приверженцев функционализма к иррационалистическим концепциям в 50-е годы). Такие повороты не могут быть поняты и объяснены на основе внутренней логики развития профессиональных концепций или даже исследования объективных факторов, влияние которых на архитектуру очевидно. Их объяснение приходится искать в сфере социальной психологии и идеологии.
В хаосе форм не возникает условий для кристаллизации стиля, исторически устойчивой общности существенных признаков архитектуры. Раздробленность мировосприятия подрывает основу реального ощущения художественного единства предметного мира, а тем самым и возможность создавать такое единство.
Органичное соединение произведений различных, видов искусства, их синтез в одном комплексе становится крайне редким явлением (несмотря на то что физическое совмещение практикуется все чаще). Однако взаимное влияние искусств чрезвычайно расширяется. Как ни в какой другой период истории множатся эксперименты, в которых формы и приемы, выработанные одним видом искусства и, казалось бы, специфичные для него, переносятся в другой вид искусства, подчас вопреки его собственной специфике.
Архитектура в большей мере, чем скульптура или живопись, использует достижения прогресса техники и опирается на общественный характер производства. Ее зависимость от законов природы и объективных закономерностей организации жизненных процессов более, непосредственна. Благодаря этому основа для развития зодчества в XX в. оставалась все же более устойчивой, чем для других видов пространственных искусств, и достигнутые ею художественные результаты в целом более значительны.
Вместе с тем на формальные поиски архитекторов капиталистических стран, несомненно, влияли эксперименты, связанные с различными направлениями в живописи (что особенно характерно для 20-х годов) и скульптуре (60-е годы). Необходимость решительного обновления средств художественной выразительности, определяемая новизной функциональных задач и прогрессом строительной техники, заставляла архитекторов в поисках новых решений обращаться к другим искусствам. При этом живопись и скульптура подчас становились проводниками влияния идеологии буржуазного общества на архитектуру.
Явлением, специфичным для художественной культуры XX в., было влияние временных искусств, получивших в ней преобладающее значение, на восприятие пространственных искусств, на отношение к ним. Не избежала такого влияния и архитектура. Проблема времени, в течение которого развертывается восприятие пространственных структур, а вместе с ним и восприятие человеком художественных образов зодчества, заняла важнейшее место в творческих концепциях архитекторов рассматриваемого периода. Взаимосвязь пространства и времени в решении задач архитектуры, которая рассматривалась сначала лишь в формально-эстетическом аспекте (как, например, в известной монографии З. Гидиона «Пространство, время и архитектура»), в 60-е годы осознавалась уже как ключ к пониманию механизма воздействия зодчества на поведение человека. Плодотворным результатом влияния временных искусств на архитектуру стало значительное обогащение ее художественных средств, ее формального языка.
Мощным фактором развития архитектуры стал в нашем столетии прогресс науки и техники. Постепенная их эволюция сменилась волной открытий и изобретений. Вторая научно-техническая революция, начавшаяся после второй мировой войны, завершила коренное обновление арсенала технических средств, которыми располагает архитектура. Появилась возможность развить новые системы организации пространства зданий: новые эффективные типы конструктивных структур из бетона, металла и синтетических материалов решительно раздвинули пределы власти человека над пространством (уже существуют мосты с пролетом около 1,5 км и башни высотой более полукилометра); современный уровень техники позволяет в принципе соорудить шестикилометровую башню или перекрыть без промежуточных опор площадь в 20 км2.
Природные материалы все больше вытесняются искусственными, физико-технические свойства и структуру которых можно регулировать, учитывая характер работы создаваемых конструкций. Необычайно расширились возможности создания разнообразных и сложных объемов сооружений. Тонкостенные оболочки из железобетона, вантовые конструкции и стержневые пространственные системы позволяют осуществить фактически почти любую задуманную форму ограничения пространства и объема здания.
Строительная техника подчинена общим закономерностям развития производства и испытывает влияние соприкасающихся с ней областей промышленности. Такая взаимозависимость выступает в числе внутренних движущих сил технического прогресса. «Переворот в способе производства, совершившийся в одной сфере промышленности, обусловливает переворот в других сферах [К. Маркс. «Капитал», т. 1; К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 395.]. Поэтому в эпоху комплексной механизации труда стал естествен и неизбежен переход строительства на индустриальные рельсы.
Индустриализация строительства связана с необходимостью внедрения стандарта и унификации, открывающих возможность массового машинного производства элементов зданий. Стандартизация — проблема не только техническая, она неразрывно связана с проблемой типа сооружения, определяемого социальной функцией; она оказывает преобразующее влияние на формообразование, на арсенал эстетических средств архитектуры. Преобразование строительства на индустриальной основе стало в нашем столетии необходимым условием, чтобы обеспечить количество жилищ, достаточное для удовлетворения жилищного голода. Теоретические проблемы индустриализации строительства начали разрабатываться в первом десятилетии XX в. Уже тогда были проведены и некоторые успешные эксперименты. Однако в капиталистических странах, несмотря на острую нужду в жилищах, прогрессивные методы строительства развивались чрезвычайно медленно. Лишь после второй мировой войны крупные строительные фирмы промышленно развитых стран стали использовать методы сборного домостроения. Но раздробленность строительной промышленности и конкуренция между фирмами до сих пор ограничивают его развитие.
Противоречия капиталистического общества если не остановили технического прогресса в строительстве, то лишили его целенаправленной последовательности. Мощный потенциал современной техники используется не для удовлетворения потребностей наиболее массовых и острых, а в первую очередь для повышения нормы прибыли в условиях, определяемых неустойчивой экономической конъюнктурой. Возникает впечатление самопроизвольного развития, направляемого некими имманентными законами, техника кажется самодовлеющей, подчиняющей себе и архитектуру и самого человека. По существу же антигуманность техники — лишь внешнее выражение чуждых человечности экономических законов капитализма.
Технический прогресс влияет на архитектуру не только прямо, через те новые материальные средства, которые он ей предоставляет, но и косвенно, своими социальными последствиями и своим воздействием на общественную психологию. Техника и ее продукты проникают во все сферы жизни человека, оказывая влияние на вкусы людей, их представления о предметном мире. Глаз, воспитанный на пропорциях классических колонн, долго не научился бы ценить стройность строек из железобетона или напряженность тонких растянутых элементов из металла, если бы не новые ряды ассоциаций, рожденные прозрачностью кузова автомобиля, легкостью форм самолета, ажурным переплетением стержней радиомачт. Обеспечивая материальную возможность обновления архитектуры, техника в то же время способствует «моральному становлению» нового. Однако, казалось бы, естественный процесс обогащения средств архитектуры преобразуется, искажается в капиталистическом обществе отчуждением производительных сил в мир, не зависящий от человека.
Одной из форм, в которой выражается отчуждение, стала фетишизация техники, подмена человека и отношений между людьми, вещью и отношениями вещей. В 20-е годы она выливалась подчас в отождествление техники и искусства, в попытки привести формообразование всего предметного мира, включая архитектуру, к общей норме, заимствованной в индустриальной технике.
Но за формальным единством, подчинением «эстетике математической чистоты и точности», нет социального содержания, нет целостности жизни. Оно распадается, оставляя лишь разочарование и неприязнь к домам — «машинам для жилья», к архитектуре, созданной по образу и подобию машины. Многие завоевания научного и технического прогресса обнаруживают свою оборотную сторону. Техника как бы оборачивается против человека, создает условия для его еще более интенсивной эксплуатации, подчиняет его себе. Нарастает трагическое несоответствие между могуществом сил, которые стали подвластны человеку, и его неумением распоряжаться этими силами. Социальные противоречия лишь обостряются техническим прогрессом.
Как следствие наступило разочарование во вчерашнем фетише. Эстетическое и этическое противопоставляются сначала механическому, технике, а затем и рациональному вообще.
Отождествление искусства и техники сменяется их противопоставлением. В конце 1950-х гг. эти явления получают отражение в архитектуре всех капиталистических стран. Вместе с отречением от рационализма растет интерес к архитектуре как средству духовной коммуникации между людьми, средству выражения определенных идей. Идеологическая борьба все более непосредственно отражается в архитектуре. Усложняются методы формообразования сооружений, приобретая подчас почти фантастическую изощренность, запутанным и многозначным становится язык средств ее художественной выразительности. Техника при этом то становится послушным средством осуществления форм, рожденных чисто пластическим замыслом, то маскируется и отступает перед стремлением к архаизации не только композиционного приема, но и конструкции.
Наука в наше время становится непосредственной производительной силой. Ее влияние приходит в архитектуру не только через новую технологию. Западные историки (З. Гидион, Н. Певзнер, Ю. Едике и др.) много писали о непосредственном отражении в архитектуре конкретных научных идей. Довольно очевидно, однако, что проводимые ими параллели между умозрительной четырехмерной моделью пространства — времени, основанной на теории относительности, и структурой воспринимаемых в движении и времени четырехмерных композиций современной архитектуры заманчиво эффектны на первый взгляд, но не выдерживают строгого анализа. Реальное воздействие научного мировоззрения на архитектуру выражается не в каких-то конкретных формах, а в углублении рационалистических основ творческого метода, его все возрастающей сложности и гибкости, в стремлении ко всестороннему анализу факторов, определяющих произведение архитектуры, в осознании города как системы. Крупнейших архитекторов научное мировоззрение неизбежно побуждает к осознанию и исследованию социальных предпосылок творчества, к трезвой критической оценке окружающей их действительности.
Специализация труда в прошлом столетии привела к возникновению профессионального типа и образа мышления архитектора-декоратора. Он мог, бездумно подчиняясь вкусам и пожеланиям заказчика, покрывать бутафорией «в стилях» любые конструкции, созданные инженером.
Революционные потрясения нашего века выдвинули на первый план социальные задачи архитектуры; ее развитие оказалось тесно связанным с изменениями в обществе. Архитектор-бутафор был бессилен перед лицом новых задач. Он не мог уже способствовать средствами архитектуры осуществлению целей буржуазии. В 20-е годы умножаются попытки возвратить профессии архитектора ее синтетический характер, вернуть в ее сферу проблемы социологии, техники, технологии. Постепенно новый профессиональный тип архитектора, владеющего в той или иной степени всем этим комплексом вопросов, становится господствующим. В архитектуре стали видеть и один из путей предотвращения опасности революционных взрывов экономическими средствами, причем средствами, дающими при минимальных затратах максимальный политический эффект. Так, острота жилищного голода позволяла даже мероприятия, ничтожные по сравнению с общим масштабом проблемы, представить как благо огромной социальной значимости. Государственные власти и муниципалитеты, вынужденные выделять определенные средства, чтобы смягчить остроту проблемы или хотя бы сделать нечто, дающее надежду на ее решение в будущем, активно использовали это в своей пропаганде.
В плодотворность социал-реформистских идей более всего поверили, пожалуй, именно архитекторы. Многие среди них полагали, что саморазвитие архитектуры может стать движущей силой исправления общества, видели в «жизнестроительстве» назначение своей профессии. «Сам Гропиус, наш общий учитель, возвел в высокую степень заблуждение, заключавшееся в том, что мы верили — хорошая архитектура будет определяющим элементом социальной революции, элементом оздоровления общетва. Мы думали, что, создавая лучшую архитектуру, мы сделаем лучше нашу страну» — так писал Э. Роджерс, вспоминая 20-е годы [«Casabella», 1963, № 268, р. 8].
Ле Корбюзье суммировал идеи, характеризующие архитектуру как некую силу, стоящую над обществом, в афоризме «архитектура или революция».
Многим в это время казалось, что архитектура, развивающаяся по своим внутренним законам, может активно формировать и направлять общественные процессы, что пространственная среда, разумно организованная средствами архитектуры, может дисциплинировать жизнь, внести в нее гармонию и порядок. Но надежды на то, что «честная» архитектура произведет переворот, заменяющий социальную революцию, как всякие иллюзии, жили недолго. Уже в начале 30-х годов многие из передовых архитекторов пришли к пониманию того, что, напротив, революция является условием полноценного развития архитектуры; принимая коммунистические идеи, они искали возможности воплотить их в своей практике (Г. Мейер, А. Люрса и др.), стремились к прямому сотрудничеству с советскими архитекторами.
Большинство архитекторов Запада не шло, однако, дальше критики, подчас очень острой, противоречий и пороков капиталистического строя (Ф. Л. Райт, Ле Корбюзье, В. Гропиус, X. Л. Серт и др.). Они не могли преодолеть ограниченность мировоззрения и предрассудки тех социальных групп, из которых вышли, и пытались искать пути исправления пороков и противоречий строя, не затрагивая его основ. Разочарование в претензии на преобразование общества средствами «разумной архитектуры» порождало скептическое отношение к социальной роли архитектуры вообще, вело к отказу от социального эксперимента. Творческие устремления связывались только с формальными проблемами, социологизацию сменил эстетизм.
Ограниченность возможностей архитектуры в условиях капиталистического общества ярче всего проявилась в области практического приложения градостроительных идей.
Теория градостроительства за последние десятилетия получила на Западе широкое развитие. В работах П. Геддеса, Р. Энвина, Элиела Сааринена, Ле Корбюзье, К. Стайна, X. Л. Серта, Л. Хильберзаймера, Л. Мумфорда, П. Аберкромби, Ф. Гибберда, В. Груэна, Дж. Джекобе содержится огромный аналитический материал. Кризис, к которому пришли города, подвергнут детальному и всестороннему изучению. Градостроительство было провозглашено ключом к решению проблемы архитектуры и во многом к изменению образа жизни. Не было недостатка ни в практических рецептах исправления городов вообще, ни в конкретных проектах их реконструкции и дальнейшего развития. Единство материальной среды, создаваемой человечеством в городах, подчеркивается в теоретических работах 60-х годов; делаются попытки изучения города как системы с использованием методов системного анализа.
Но кризис городов на Западе порожден общими противоречиями капитализма, и архитектурно-планировочные проблемы упираются в противоречия между общественными и частными интересами, в классовые противоречия. Поэтому детально обоснованные и, казалось бы, вполне реалистические проекты оказываются неосуществленными.
Частная собственность на землю остается одним из основных препятствий на пути развития градостроительства. Р. Хиллебрехт в своем докладе на V конгрессе Международного союза архитекторов подчеркивал, что принцип неограниченного права собственности на землю затрудняет здоровое развитие градостроительства и опасен для общества. Он говорил, что «...эта проблема давно вышла за рамки частного технического вопроса градостроительства и переросла в общественно-политическую задачу первостепенного значения» [Р. Хиллебрехт. Законодательные, экономические и социальные стороны осуществления проектов. Доклад на V конгрессе MCA. М., июль 1958, стр. 43—44.].
Реальное перспективное планирование и координация развития экономики страны неосуществимы в условиях капитализма, а отсюда — стихийность роста, хаотичность пространственной структуры города. Громадные средства затрачиваются на решение не социальных, а технических проблем. Строятся комплексы инженерных сооружений — скоростные магистрали, поднятые на эстакадах, сложнейшие многоуровневые транспортные развязки. Однако они лишь на какой-то короткий промежуток времени смягчают функциональный паралич городов, порожденный самой организацией общества. Это борьба не с болезнью, но лишь с ее последствиями.
Не последнее место среди факторов, обостряющих кризис городов, занимает социальная психология «среднего горожанина», особенно культивируемая в США. Пристрастие к «домикам среди сада» стимулирует безграничное разрастание городов. Личный автомобиль становится предметом необходимости в городе, распластавшемся на многие десятки километров; с автомобилем связывается и представление о престиже хозяина, и поэтому автомобиль становится непомерно громоздким, пожирающим много больше городского пространства, чем это действительно необходимо.
Функциональный кризис городов стал фактом. Громадные потери времени, которые затрагивают уже не только интересы отдельных людей, но и дезорганизуют функциональную систему города в целом; снижение эффективности труда; падение рождаемости, а следовательно, и уровня воспроизводства рабочей силы; специфические заболевания, связанные с нездоровыми условиями урбанизированной среды, заставляют капиталистические государства вкладывать, немалые средства в работы по реконструкции городов. Однако успехи достигаются лишь в частном, не- затрагивая существа проблемы.
Растущее загрязнение среды — атмосферы, почвы, водных бассейнов — отходами промышленных предприятий, выхлопными газами двигателей автомашин и самолетов ко второй половине XX столетия достигло угрожающей степени. Оно уже становится причиной не только отдельных катастрофических явлений, ведущих к гибели людей, но и постоянно подтачивает здоровье и сокращает жизнь практически всего населения крупнейших городов капиталистических стран. Следствием транспортного хаоса стало все растущее множество дорожных происшествий.
Объективные закономерности развития индустриальных центров искажаются стихийностью беспланового развития экономики, рождающей уродливые диспропорции — застой и упадок в одних районах, лихорадочное разрастание населения и производств в других (например, гипертрофированное разрастание индустриального сверхгорода на севере Италии в районе Милан — Турин сопровождается упадком и обнищанием южных провинций; гигантские сверхгорода растут на востоке США, на юго-востоке- Англии, на Тихоокеанском побережье Японии, вокруг Мехико в Мексике, Сан-Паулу в Бразилии и т. д.).
Рост города, который не удается подчинить регулирующим мероприятиям, начинает толковаться как фатальная неизбежность. Теория градостроительства на Западе в 60-е годы занимается уже не проблемой прекращения или ограничения этого бесформенного разрастания, а возможностью придать ему какие-то организованные формы (или поиском таких форм самого города, которые не будут дезорганизованы стихийным ростом). Рождаются многообразные концепции «динамических» городов. Наиболее популярна среди них теория греческого архитектора, политического деятеля и предпринимателя Константиноса Доксиадиса, претендующая на постановку и решение всех проблем развития человеческих поселений с помощью новой науки — экистики. Во Франции идеи трехмерного мобильного строительства выдвигают П. Меймон и И. Фридман, в Японии с гипотезами развития городов выступает группа метаболистов, в Англии — группа «Аркигрэм». Общая черта этих теорий — трактовка города как организма, которому естественно присущ самопроизвольный непрерывный рост, и утверждение главной задачи градостроительства в том, чтобы открыть беспрепятственную возможность такого разрастания. Как идеал утверждается город, сохраняющий единство системы при любых непредвидимых пароксизмах роста.
Эти теории не оказывают влияния на реальное развитие: их авторы уповают на грядущие поколения. В то же время, утверждая естественность и неизбежность противоречий современного капиталистического города и рождая иллюзии возможности их благополучного разрешения в будущем, они стали новым средством буржуазной реформистской политики.
Одной из важных черт развития архитектуры в период новейшей истории стало быстрое распространение вновь возникающих течений и направлений на многие страны. В начале века существовало лишь несколько очагов развития новых идей в архитектуре, связанных с крупнейшими индустриально развитыми странами (Франция, Англия, Германия, Австро-Венгрия, США). Но уже к середине столетия на первый план, тесня традиционных лидеров, выходят архитекторы Японии, Финляндии, Швеции, Бразилии, Мексики. В ряд со старыми, давно завоевавшими авторитет архитектурными школами крупнейших западноевропейских стран и США становятся архитекторы Дании, Норвегии, Голландии, Швейцарии, Италии, Канады, Венесуэлы, Аргентины. Быстро возрастает объем и качественный уровень строительства в молодых, развивающихся государствах Азии и Африки, завоевавших свою независимость.
Глобальный характер многих процессов, происходивших в современной архитектуре, определяет особую остроту проблемы соотношения в ней интернациональных начал и особенностей, связанных с самобытностью национальной культуры, местными природно-климатическими условиями и ресурсами материалов. Проблемы эти усложняются привнесением в архитектуру тенденций космополитизма, с одной стороны, и национализма, с другой.
Развитие международных экономических связей, быстрое распространение достижений науки и техники, обеспечивающее сравнительно одинаковый технический уровень материальной базы строительства, многообразие форм информации вошли в число объективных предпосылок расширения общности в архитектуре различных стран. Совершенствование систем искусственной климатизации помещений, казалось бы, делает архитектуру все менее зависящей от климатических условий. Не замыкаются в рамках одной страны и проблемы социально-экономического развития.
Однако в условиях капиталистического строя невозможны отношения равенства между государствами и нациями. Развитие общего в архитектуре разных стран подменяется попытками повсеместного внедрения специфических черт архитектуры страны (или группы стран), претендующей на политическое и культурное лидерство. Повсеместное насаждение форм, принятых господствующей группой стран, вне зависимости от их целесообразности в конкретных условиях, становится выражением отношений господства и подчинения, характерных для капиталистической системы.
Укрепление национального самосознания развивающихся народов сопровождается стремлением к возрождению и развитию их культур, в том числе и национальных школ в архитектуре. Процесс этот отражает, однако, различие подхода к национальной культуре у различных классов и социальных групп. Буржуазный национализм часто рождает стремление подчеркнуть элементы исключительности в архитектуре данной нации, несходства ее с архитектурой других наций. При этом абсолютизируется ценность специфических традиций — вне зависимости от их подлинной значимости для современной культуры нации, отвергаются многие достижения научно-технического прогресса. Подобные явления возникают на общем фоне прогрессивного развития архитектуры Индии и арабских стран, они довольно широко распространились в странах Юго-Восточной Азии.
Архитектура социализма в период новейшей истории существует одновременно с архитектурой капитализма. Ее идеи и ее практика с первых послеоктябрьских лет стали оказывать глубокое и принципиальное влияние на архитектуру Запада. Уже самое ее существование заставляло господствующие классы идти на реформистские уступки и маневры, допуская осуществление тех, пусть ограниченных социальных экспериментов, к которым стремились прогрессивно мыслящие архитекторы.
Творчество советских архитекторов имело существенное значение для становления основных течений мировой архитектуры, для конкретного решения многих профессиональных проблем, для развития теоретических концепций. Эксперименты самых радикальных и прогрессивных архитекторов, действовавших в узких рамках, поставленных капиталистической системой, были превзойдены той гуманистической комплексностью решения социальных, функционально-технических и психологических проблем, которая отличает работу советских зодчих, основанную на революционном преобразовании общества. Широкий размах градостроительных начинаний, последовательность их осуществления, практическое использование возможностей индустриализации для расширения массового строительства — эти достижения архитектуры социализма привлекали и привлекают внимание архитекторов и теоретиков архитектуры на Западе.
Архитектура новейшего времени использует технические средства небывалых объема и мощности. Новые методы строительства теснее, чем прежде, связали архитектуру с развитием промышленности и производительных сил в целом. Сроки строительства зданий, время, необходимое для воплощения новых идей и концепций, для ответа на вновь возникающие потребности, стали краткими, как никогда в истории. Возникновение новых социально-экономических факторов и воплощение их воздействия в конкретных явлениях архитектуры сблизились во времени. Как следствие этого основные этапы истории архитектуры капиталистического общества совпадают с общеисторической периодизацией.
Первый этап общего кризиса капитализма — 1917—1939 гг. — определяет собой первый период истории архитектуры новейшего времени, обрывающийся с началом второй мировой войны. Его внутреннее членение также связано с социально-историческими процессами. Годы непосредственно после первой мировой войны — 1918—1924 гг., когда резко обострились социальные противоречия, по всей Европе прокатились волны революционных выступлений пролетариата, — для архитектуры были временем пересмотра старых, зарождения и формирования новых идей. Потрясенная войной экономика ограничивала возможности строительства, деятельность архитекторов развертывалась в значительной мере в области теоретических дискуссий и поискового, «бумажного» проектирования.
Годы с 1925 по 1933, начало которых совпало с коротким этапом временной стабилизации капитализма, были самыми плодотворными в этом периоде развития архитектуры капиталистических стран. Именно тогда под влиянием советской архитектуры началась кристаллизация наиболее прогрессивных концепций и направлений. Возникали новые типы зданий, связанные с потребностями пролетариата, завоеванные им в борьбе. Широкое международное распространение получили идеи рационализма. Из разрозненных экспериментов складывалось широкое течение, в короткий срок охватившее архитектуру основных капиталистических стран Европы и распространившееся на другие континенты.
Короткий период сравнительной стабилизации капитализма завершился глубочайшим кризисом перепроизводства 1929—1933 гг.
Время с 1933 г. до начала второй мировой войны в 1939 г. было отмечено отходом западноевропейской архитектуры от многих прогрессивных завоеваний предшествующих лет. Новая архитектура в это время утрачивает свое социальное содержание, перерождается в набор формальных приемов. Функционализм как международное течение, объединившее приверженцев рационалистической архитектуры и обладающее единством творческих принципов, распалось, теряя только что завоеванные позиции. Сужение социальных целей архитектуры сопровождалось усилением тенденций к монументальности, представительности. Вновь активизировалось неоклассицистическое направление. Арсенал его средств и приемов был доведен до утрированно монументализированных, лишенных человечности форм в архитектуре фашистских государств.
Против функционализма выступили с позиций абстрактного гуманизма и приверженцы «органической архитектуры», возникли первые поиски специфических региональных направлений в современной архитектуре.
Следующий период истории архитектуры новейшего времени совпадает со вторым этапом общего кризиса капитализма (1945 г. — середина 1950-х годов). Послевоенное восстановление и попытки разрешить обострившийся кризис городов определяют возросшее значение градостроительства.
Архитектура вновь стала использоваться для пропаганды идей социал-реформизма. Возрождались рационалистические тенденции, во многом утратившие свое влияние в предвоенные годы. Однако интернационалистические лозунги архитектуры предшествующего периода перерождались в космополитические. США пытались распространить свой диктат ведущей капиталистической державы и на область архитектуры. В противодействии их влиянию укреплялись и развивались региональные и национальные архитектурные школы, складывалось самобытное зодчество развивающихся стран.
Вместе с началом третьего этапа всеобщего кризиса капитализма (с середины 1950-х годов) намечается и перелом в развитии архитектуры Запада. Активность градостроительных начинаний снижалась, слабели и попытки социальных экспериментов. Обострился интерес к идеологической, художественно-образной стороне архитектуры, активизировалось стремление использовать ее как средство в борьбе идеологий и как инструмент воздействия на сознание масс. Расширялись, занимая все более значительное место, иррационалистические тенденции. Усложнившиеся формальные средства архитектуры, ее новый художественный язык в то же время стали все теснее связываться с новейшими достижениями строительной техники. Калейдоскопичность смены течений и направлений в эти годы возрастала, как никогда ранее.
Развитие архитектуры капитализма с 1917 до конца 1960-х годов рассматривается в томе по континентам и странам, причем внутреннее подразделение глав на исторические периоды ограничивается делением на время до и после второй мировой войны (за исключением немногих стран, где конкретные особенности процесса развития не оправдывали такое подразделение). Чтобы яснее характеризовать развитие идей и течений, имевших международное значение, мы даем их обзор в последующих разделах вводной части. В особом разделе тома рассматриваются и тенденции прогресса строительной техники, имевшие значение для архитектуры всех стран.
* * *
Годы, которые непосредственно следовали за первой мировой войной, до последнего времени не привлекали внимание историков зарубежной архитектуры. Между тем именно тогда происходил противоречивый и мучительный процесс формирования направлений, по которым пошло развитие зодчества в последующие десятилетия.
Это было время великих потрясений. Ослабив систему капитализма, война обнажила ее противоречия. Она принесла громадные разрушения, гибель десяти миллионам людей, горе и лишения трудящимся и в то же время лишь обогатила капиталистов, еще более увеличив социальное неравенство и углубив классовые противоречия.
Вслед за революцией в России поднялись волны революционных выступлений рабочего класса и национально-освободительного движения на Западе и Востоке. Эти выступления заставили господствующие классы многих стран маневрировать, идти на уступки. Социал-реформизм использовался как клапан, снижающий близкое к взрывной черте давление народных масс.
Жилищная проблема, обострившаяся за годы войны, определила одно из главнейших направлений реформистских маневров. Реальность проблемы была жестокой. Жилищ, доступных для трудящихся, в индустриальных городах недоставало и до войны. В результате военных действий только в Англии, Германии и Франции было разрушено около миллиона квартир, жилищное строительство оказалось почти полностью приостановленным более чем на четыре года, стоимость жилья и арендная плата за него возросли в несколько раз. Во многих странах положение обострилось из-за миграции, связанной с изменениями политической карты Европы. Острота жилищной проблемы была такова, что оказалось возможным широко внедрить убеждение, будто ее решение — главное звено в преобразовании жизни. Мысль о строительстве нового общества с помощью реформированной архитектуры многократно повторялась тогда в программных документах радикально настроенных групп западноевропейских архитекторов. Так, О. Шлеммер в «Манифесте», посвященном первой выставке Баухауза (1923 г.), называл эту школу «сборным пунктом надеющихся на будущее и штурмующих небо, тех, кто хочет строить собор социализма» [Цит. по книге: U. Conrads. Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts, Frankfurt-Wien, '1964, S. 5.]. Бруно Таут в «Архитектурной программе» ставил перед архитекторами задачу подготовить «революцию духа». Подобные представления, будучи далеки от марксистского понимания законов общественного развития, все же заостряли внимание на ответственности архитектора перед обществом и социальном значении его деятельности.
В первые послевоенные годы в возрождавшемся строительстве количественно преобладали эклектические постройки. Архитекторы составляли часть творческой интеллигенции, занимавшую прочное положение в буржуазном обществе. Для их большинства, стремившегося не замечать необратимых изменений, происходивших в обществе, война была лишь вынужденным перерывом в профессиональной деятельности. Боязнь перемен, неприятие нового рождали смутную тоску о прошлом, находившую воплощение в ретроспективных образах, пронизанных тоскливой романтикой. Радикальные поиски новых решений до конца 20-х годов велись постепенно расширявшимся, но все же ограниченным кругом архитекторов.
Наиболее заметным явлением в европейской архитектуре 1918—1920 гг. был национальный романтизм. Его традиции, возникшие в начале столетия, продолжали развиваться и в военные годы в Голландии и Скандинавских странах, оставшихся нейтральными. Строительство здесь не прерывалось, сохранялась и основная направленность архитектуры предвоенных лет.
Романтизм был устремлен к ретроспективным образам, которым подчинялась структура построек. Впрочем, в художественных приемах национального романтизма традиционное сплеталось с влиянием угасавшего стиля модерн. Предпочтение, отдаваемое романтиками таким материалам, как черепица, кирпич, дерево, определялось не только обращением к образцам исторической архитектуры, но и влиянием ярко индивидуальных мастеров старшего поколения — Ф. Л. Райта, X. П. Берлаге. Реальное назначение построек для романтиков служило прежде всего поводом к воплощению художественных идей; их образы основывались на ассоциациях, связанных с конкретными формами исторической архитектуры.
Имитация патриархального ремесленничества, характерная для ранней стадии национального романтизма, в послевоенных постройках сменилась фантасмагорической причудливостью композиций. Усилилась капризная живописность, появилась неуравновешенность, динамичность форм. Контрасты объемов стали нарочито дисгармоничными, придающими целому характер мрачной напряженности. Привычные соотношения и пропорции традиционных форм причудливо искажались, смещались.
В этом беспокойном антураже как бы отражалось смятение духа перед лицом истории. Национальный романтизм трансформировался в новое направление. Оно было связано с экспрессионизмом — течением, которое возникло в изобразительном искусстве в начале нашего века и пережило бурную вспышку после первой мировой войны. Эмоциональная возбужденность, порождаемая ощущением неустойчивости и неустроенности жизни, предчувствие грандиозных социальных потрясений, страх и беспомощность перед ними и вместе с тем мелкобуржуазное анархическое бунтарство отразились в этом течении.
Влияние экспрессионизма на архитектуру привело не только к перерождению национального романтизма в Скандинавских странах, Голландии и Германии. Возникла собственно экспрессионистская архитектура, не связанная традициями. Наиболее яркое выражение она получила в Германии 1919—1922 гг. То, что она развилась именно в этой стране, сотрясаемой мощными революционными взрывами, не было случайным. Половинчатость революции 1918 г., жестокие расправы с прогрессивными силами, оппортунизм социал-демократов создали для нее историческую почву. Протест против разгула .реакции, индивидуалистический мелкобуржуазный бунт против капиталистического общества, анархическое неприятие существующего сочетались у экспрессионистов с недоверием к народным массам, страхом перед ними. Художник отвергал весь мир, противопоставляя ему свое одинокое «я». Безнадежность противопоставления рождала отчаяние, деформировавшее восприятие.
Так родилось гипертрофированное, искаженное отражение социальных конфликтов в. искусстве, принципиально иррационалистическом, не приемлющем гармонии, равновесия, ясности. Экспрессионизм тяготел к нарочитой грубости, экстатичности, динамизму и деструктивности. Эти черты его, оформившиеся в изобразительном искусстве, были перенесены в архитектуру вместе с гротескной символичностью и беспокойными, пульсирующими ритмами формы.
В отличие от национального романтизма, деформировавшегося под влиянием экспрессионизма, собственно экспрессионистская архитектура была свободна от исторических реминисценций. Первичность художественно-образного замысла, в рамках которого развивалось функциональное решение, была характерна для экспрессионистов, как и для романтиков. Но для экспрессионистов система образных средств архитектуры не ограничивалась построением объема здания и декорацией его интерьеров и фасадов. Они разрабатывали специфические приемы организации архитектурного пространства, становившегося сложным, расплывчато бесформенным с ускользающе нечеткими границами, сложными связями частей (работы Г. Пёльцига, Э. Мендельсона, Г. Шаруна). Для их творческого метода типичны широко известные архитектурные наброски Э. Мендельсона — эскизы, создававшиеся без предварительного изучения функциональных процессов.
Экспрессионисты отвергли не только классические правила композиции, но и дисциплинирующее влияние логики конструкций; динамичность и неуравновешенность стали также характерны для их произведений, как статичность и завершенность для композиций классицизма. Они создавали формы — символы, сооружения, художественный образ которых построен на прямых ассоциациях с произведениями техники и формами органической природы (например «башня Эйнштейна» в Потсдаме, построенная Мендельсоном). Нарочитой алогичностью композиций архитекторы стремились подчеркнуть свою независимость от буржуазного конформизма, выразить неприятие существующей действительности.
Экспрессионизм не имел ни единой творческой программы, ни организационной структуры. На короткий период это течение своими бунтарскими идеями объединило передовых представителей культурной жизни Германии и привлекло многих архитекторов других европейских стран. Но расплывчатость идеологии, органически присущая экспрессионизму, и необходимость более четко определить свои политические позиции обусловили постепенный отход от экспрессионизма его сторонников. Выдвигая тезис об архитектуре как основном средстве повышения уровня жизни и демократизации общества, экспрессионизм предлагал лишь разрушение сложившихся догм. Его позитивная программа ограничивалась наивно утопическими мечтами о «светлом храме будущего».
Вместе с разочарованием в идейной платформе экспрессионизма для его приверженцев наступает и период поиска иных путей в архитектуре. Одни, утратив прежний радикализм, подчиняют свое творчество националистическим тенденциям; другие — как В. Гропиус и Л. Мис ван дер Роэ — возвращаются на прерванный войной путь рационалистических поисков; третьи в свободных от предвзятости, подчас нарочито «остраненных» формах ищут решений, вытекающих из специфики функционального назначения и особенностей места (Г. Херинг, Г. Шарун). Нарастание внутренней неоднородности приводит к тому, что экспрессионизм как течение в архитектуре окончательно распадается к 1923—1924 гг. Его бывшие приверженцы пошли различными путями, становясь подчас на полярно-противоположные позиции.
Когда, однако, в последующие десятилетия (конец 1930-х и 1960-е годы), в архитектуре вновь возникали иррационалистические тенденции, их сторонники неизменно старались «перекинуть мосты» к экспрессионизму начала 20-х годов, утвердить себя как его преемников. Моральный авторитет, который приобрел экспрессионизм, установив пусть не очень прочные связи с революционным движением и подняв голос протеста против буржуазной действительности, надолго пережил самое течение.
Экспрессионисты стремились найти художественный эквивалент революционным потрясениям; напротив, сторонники неоклассицизма объединялись стремлением противопоставить обновлению жизни незыблемость «вечных» законов архитектурной классики. Экспрессионисты видели в архитектуре средство преобразования общества, сторонники неоклассицизма — средство закрепления сложившегося порядка. Неоклассицизм в годы после первой мировой войны по-разному проявлялся на Западе. Иногда это были попытки использовать воспроизведенные с археологической точностью формы архитектуры прошлого (например, греческой классики в построенном Г. Бэконом мавзолее Линкольна в Вашингтоне, римской — в зданиях англичан Э. Лаченса и К. Грина, петербургского классицизма — в домах А. Клайна на Балленштедтштрассе в Берлине). В других случаях от классицизма оставались лишь общая симметрия композиции с четко выявленным центром и ордер — упрощенный, геометризованный, но сохраняющий подобие канонических пропорций в ритме прямоугольных пилонов (например, промышленные постройки X. Хертлайна в Берлине). Неоклассицизм тех лет не был течением, имеющим программу. Его сторонников объединял лишь консерватизм творческого метода, во многих случаях бывший логическим продолжением консерватизма идейных воззрений.
Исключением были, пожалуй, лишь О. Перре и его приверженцы во Франции и Швейцарии. С неизменной последовательностью Перре разрабатывал структуры железобетонных сооружений, опираясь как на академические приемы композиции, так и на традиции фахверковой архитектуры Северной Франции. Этот мастер как бы сконцентрировал в своем творчестве рационалистические тенденции прошлого столетия — конструктивно-тектонический подход к архитектуре, неразрывно связывающий пластическую форму с конструкцией, и рассудочность при решении эстетических проблем. Творчество Перре образовало живую связь между идеями Лабруста, Виолле ле Дюка, Шуази и становлением архитектуры новейшего времени.
Это направление было всецело устремлено к проблемам тектоники, как постоянным и извечным; ее закономерностям оно подчиняло и организацию пространства. Функцию, назначение зданий, социальные процессы представители этого направления считали условиями переменными и стремились возможно меньше подчинять им композицию сооружения. Самой последовательностью своих экспериментов с железобетоном О. Перре стремился подтвердить идею, воспринятую им у Шуази, — о первичности строительной техники по отношению к архитектуре, конструкции по отношению к пространству. Традиция выступала в творчестве Перре как живая и развивающаяся.
Влияние О. Перре определило и некоторые стороны раннего творчества Ле Корбюзье, в котором персонифицировалась одна из влиятельных тенденций западноевропейской архитектуры начала 20-х годов. От экспериментов в живописи, рассудочных, рационалистических, направленных на изучение эстетических свойств предметов массового производства («пуризм»), Ле Корбюзье сделал шаг к анализу стандартизации как проблемы не только технической, но и эстетической. Это привело его к мысли о необходимости придать законченную, типизированную форму всему окружению повседневной жизни, формировать окружающий человека предметный мир средствами массового машинного производства. Машина выступает у Ле Корбюзье как средство радикального изменения и самой жизни. Ле Корбюзье говорит о машине, как об основе рациональной новой эстетики, эстетики идеально гладкой плоскости, прямого угла, точных пропорций, определяемых математическим расчетом. Эту бескомпромиссную рационалистичность Ле Корбюзье из области пуристской живописи и теоретических рассуждений перенес на архитектуру.
Переход к индустриализации строительства, необходимое для этого внедрение стандарта выдвигались Ле Корбюзье не только как основы создания новой архитектуры, но и как средство преобразования общества. В книге «К архитектуре» (1923 г.), где он объединил первоосновы своей концепции — техницизм и воспринятый у О. Перре академический рационализм, Ле Корбюзье писал: «Великая эпоха наступила. Индустрия, неудержимая, как река, сносящая плотины, приносит нам новые средства, которые отвечают новому духу этой эпохи... Проблема дома — одна из проблем эпохи. От ее решения зависит социальное равновесие... Крупная индустрия должна заняться домостроением и поставлять серийные элементы домов. Надо создать «дух серийности» — стремление строить дома сериями, стремление жить в домах-сериях, стремление мыслить о домах как сериях» [Le Corbusier. Vers une architecture. Paris, 1923.].
В иллюстрациях к своей книге Ле Корбюзье сопоставляет изображения автомобиля и Парфенона. Он не ищет противоположности, как это делали в свое время итальянские футуристы, а утверждает аналогию между ними; он видит единство принципов формообразования в технике и классической архитектуре. История античного зодчества для него — процесс отбора, ведущего к стандарту, путь от случайности к типу. Стандарт Ле Корбюзье связывает с чистой геометрической формой.
Машиноподобные формы, появляющиеся у экспрессионистов, романтичны и иррациональны. У Ле Корбюзье машина выступает как инструмент преобразования общества. Его подчеркнутая деловитость противостоит идиллическому ремесленничеству, к которому обращены «манифесты» экспрессионистов. Но его объединяло с ними представление об архитектуре как о силе, которая может реформировать общество «помимо революции».
Реформистские призывы приобретали смятенный, патетический оттенок в бурной обстановке побежденной Германии; во Франции, державе-победительнице, реформизм был одним из элементов политики господствующего класса, тогда еще уверенного в своих силах. Его идеи выливались в форму трезво-деловитых предложений.
Мысли об индустриализации строительства, казалось, приобретали тогда реальный характер. Во Франции компания «Вуазен», завершив выполнение военных контрактов, предполагала переключиться с самолетостроения на строительный бизнес, создав даже прототипы сборных построек. Недостаток квалифицированной рабочей силы в строительстве стимулировал развитие экспериментов по применению новых материалов и новых методов в первые послевоенные годы. «Нетрадиционные» системы разрабатывались и в других странах — Англии, Германии, Голландии. Были предложены различные сочетания металлических и железобетонных каркасов с панелями из легких материалов или легкобетонными блоками, крупнопанельные и сборно-монолитные системы. Можно было надеяться, что строительство будет вооружено техническими средствами для решения одной из самых острых проблем, определяющих жизненный уровень масс — жилищной проблемы. Однако эти поиски были порождением ситуации лишь ненадолго сложившейся в экономике Западной Европы. Движущей силой поисков была забота не об улучшении жизненных условий трудящихся, а о высокой норме прибыли, на которую надеялись крупные промышленные фирмы, видя огромную емкость жилищного рынка.
Уже в 1920—1921 гг. в Западной Европе возобновилась безработица. Снизилась стоимость рабочей силы, что сделало более рентабельными традиционные методы строительства, требующие больших трудозатрат, но меньших капиталовложений в оборудование и технику. Упал и платежеспособный спрос на жилища (хоть и не уменьшилась в них потребность). Индустриальное домостроение уже не открывало перспектив высоких прибылей. Многообещающие эксперименты были поэтому прерваны, надежды на близящееся разрешение жилищной проблемы с помощью индустриальных методов строительства оказались в условиях капиталистического общества иллюзией — это стало ясно уже к тому времени, когда книга Ле Корбюзье вышла в свет. Рационалистический идеализм, как можно назвать логические построения Ле Корбюзье, игнорирующие принципиальную алогичность капиталистической системы, получил первый удар при столкновении с реальной действительностью. «Картезианская логика», которой гордился Ле Корбюзье, была бессильна в алогичном мире. Идеи Ле Корбюзье, провозглашенные в острополемической, впечатляющей форме, привлекали, однако, внимание молодых архитекторов многих стран.
Другим очагом развития рационализма в архитектуре стала немногочисленная группа художников и архитекторов, объединившаяся вокруг голландского журнала «De Stijl» (выходил с октября 1917 г. по 1928 г.). Идеология членов группы, как и их современников экспрессионистов, была порождена кризисом буржуазного общества, неприятием его действительности. Однако миру хаоса и произвола группа «Де Стиль» стремилась противопоставить не романтическое бунтарство, а некую воплощенную в искусстве абстрактную гармонию, освобожденную от субъективности и индивидуализма. Идеи группы были в значительной мере связаны с идеалистической философией неоплатоников, а ее эстетическая концепция опиралась на «неопластицизм» живописца Пита Мондриана, воплощавшийся им в холодно-рассудочные геометрические абстракции из горизонтальных и вертикальных линий и плоскостей, окрашенных в чистые элементарные цвета.
В архитектуре членами группы подчеркивалось главенство пространства, универсальность которого должна претворяться в единство организованной среды, где «внутреннее» и «внешнее» не противопоставлено. Прямоугольная плоскость служила главным элементом организации. Подчеркивалось самостоятельное значение каждой плоскости — этой цели должны были способствовать и локальные чистые цвета, распределение которых определялось границами плоскостей.
Лаконизм прямоугольных форм рассматривался как принципиальное качество, приближающее архитектуру к «высшей гармонии духа». Машинная техника, использование искусственных материалов, входили в эстетику «неопластицистской» архитектуры как средства преодоления природы, помогающие интенсифицировать духовную жизнь человека. Группа «Де Стиль» приветствовала приход машинной техники в архитектуру и потому, что видела в ней средство уничтожить индивидуальные признаки сооружений и случайности, уводящие от абсолютной геометричности.
Догматические концепции лидеров «Де Стиль», замкнутые в пределах эстетической теории, сами по себе не были плодотворны. Не случайно с ними связаны очень немногие осуществленные постройки. Но «Де Стиль» конкретно поставил проблему создания новых композиционных средств, необходимых для того, чтобы сделать архитектуру способной решать усложнившиеся социальные задачи. Проблемы организации пространства, освобождения от неструктурных пластических элементов, связи геометрических форм и стандарта были сформулированы остро и четко — это стимулировало творческие поиски.
Рационализм группы «Де Стиль» простирался лишь на проблемы формы, однако он послужил укреплению рационалистических тенденций, не ограниченных узким кругом формально-композиционных задач. Сама группа была как бы лабораторией, создававшей своеобразную «архитектуру для архитекторов», ее эксперименты помогали творчески активным мастерам в поисках новых средств, нового художественного языка архитектуры. Этим объясняется международное влияние, которое получили группа и ее журнал, издававшийся тиражом немногим более 200 экземпляров. Влияние группы отразилось на развитии творчества Ле Корбюзье и многих молодых французских архитекторов, оно было чрезвычайно важно для архитектуры Германии, для преодоления в ней иррационалистических тенденций экспрессионизма; с ним связано становление рационализма в архитектуре Чехословакии, а позднее Швеции, Италии, Швейцарии.
Революционные изменения, которые произошли в мире, четко поставили перед архитектурой задачу создания нового. Работы экспрессионистов, Ле Корбюзье, группы «Де Стиль» в очень большой степени определялись негативными тенденциями, отрицанием эклектики и догматических традиций. Они вели борьбу с этими явлениями, накапливая по отдельным элементам новые идеи. Принципиальное значение для объединения прогрессивных тенденций и их реализации в едином архитектурном направлении имело установление контактов с рождавшейся архитектурой социалистического общества. Воплощающая подлинно революционную идеологию, связанная с реальными процессами преобразования общества, советская архитектура оказала решающее влияние на определение тех путей, по которым пошла прогрессивная часть мировой архитектурной общественности.
Уже в начале 1920-х годов в Западной Европе широко распространяются идеи советских архитекторов. Громадное впечатление произвели, например, проект «Башни III Интернационала» Татлина, «архитектоны» Малевича и «проуны» Эль Лисицкого, которые были восприняты как яркие воплощения новой проблематики архитектуры. Поиски нового в советской архитектуре не были экспериментами только в конструктивно-пространственном плане. Уже в эти годы за ними стояла реальность нового социального содержания, в них отразились подлинно революционные дерзания. Советские конструктивисты отнюдь не ограничивали свои интересы конструкцией в ее утилитарно-техническом понимании, как это утверждают некоторые любители «буквализма». Конструкцию понимали как рационально организованную структуру сооружения во всех ее аспектах, как «конструирование жизни».
Большую роль в ознакомлении Западной Европы с советской архитектурой сыграл художник и архитектор Эль Лисицкий. Уже в 1921 г. он впервые приехал из Москвы в Берлин, чтобы установить связи между советскими художниками и прогрессивной общественностью Германии. Он организовал советские выставки и доклады о советской архитектуре и искусстве во многих странах Европы; вместе с И. Эренбургом начал в 1922 г. издавать в Берлине журнал «Вещь», через который широко распространялась информация о новой культуре Советской России. Лисицкий стремился раскрыть грандиозные задачи, которые поставила перед архитектурой Октябрьская революция, показать противоположность двух полюсов — общества, которое распадается, и нового, строящегося общества. Он не был пассивным информатором. В своих контактах с зарубежными архитекторами он стремился активно влиять на них, раскрывая идеи советской архитектуры, которой был глубоко чужд эстетизм, так ярко выраженный в манифестах «Де Стиль» и статьях Ле Корбюзье.
Самые радикальные среди архитекторов Запада хотели видеть в искусстве средство исправления жизни. Советский конструктивизм исходил из необходимости революционного переустройства самой действительности, был устремлен к единству жизни и ее предметной среды на реальной основе обновленной социальной организации нового общества. Советский конструктивизм отрицал эстетское искусство, западный был с таким искусством неразрывно связан. Рационализм на Западе возрождался в начале 1920-х годов как рационализм формы; советский конструктивизм, объединявший таких мастеров, как братья Веснины, М. Гинзбург, И. Леонидов, А. Никольский, провозглашал: «Настало время социально-целесообразному!» [А. Ган. Конструктивизм. Тверь, 1922, стр. 62.].
Социальная целеустремленность конструктивизма, радикальный подход к конструированию пространства помогали освобождаться от ограниченности эстетики «Де Стиль», иррационализма и ремесленничества экспрессионистов.
В период между 1918 и 1924 гг. прогрессивное развитие архитектуры связывалось с деятельностью немногих передовых архитекторов. Характер основной части того, что строилось, определялся упорными попытками сохранить мишурное самодовольство эклектизма. Новое получило выражение в немногочисленных экспериментах и не выходило за пределы проблем, связанных с формированием единичного сооружения. Градостроительство этих лет в условиях продолжавшегося обострения кризиса капиталистического города не сделало существенных шагов. Идущие от Э. Говарда идеи города-сада по-прежнему казались наиболее радикальными и прогрессивными. Попытки осуществить эти идеи, за единичными исключениями, не шли дальше строительства аморфных, расползавшихся по территории «пригородов-спален». Расширение Амстердама по традиционному проекту X. П. Берлаге, сочетавшему приемы классицизма с приемами, идущими от идей Камилло Зитте, было примером деятельности иного направления, рассматривающего город как единый массив. Это направление еще теснее было связано с градостроительными идеями предшествовавшего столетия.
Уже формировались урбанистические идеи Ле Корбюзье, развивающие тенденцию, возникшую в предвоенных утопиях А. Сант’Элиа, но в это время они еще не сложились в законченные системы и не получили широкого резонанса, предваряя явления,, которые стали получать реализацию лишь в последующие годы.
«География» новых явлений в архитектуре этого периода была ограничена странами Западной и Центральной Европы, где особенно остро проявлялись противоречия капиталистического общества и особой напряженности достигла интенсивность социальных процессов. В архитектуре США господствовали эклектические и неоклассицистические тенденции, сочетавшиеся с трезвым прагматизмом и смелостью инженерно-конструктивных решений.
Новым явлением в архитектуре США этих лет было создание построек, служивших вульгарной «массовой культуре» или, точнее, той культуре для потребления массами, которая создавалась в интересах господствующих классов. Начало этому было положено вместе с выдвижением кино в число главных средств массовой коммуникации и формирования «культуры для масс».
В 20-е годы Голливуд стал всемирной фабрикой грез, стандартизированной мечты, создававшейся в расчете на среднего обывателя. Материальным воплощением голливудских «утешительных мифов» стала архитектура американских кинотеатров 1920-х годов, их создавали как материальное продолжение «снов», развертывающихся на экране. Здесь рядовой потребитель за доступную цену должен был испытать иллюзию сопричастности магическому миру богатства. Выполняя такую задачу, архитекторы создавали постройки, где поддельная, бутафорская роскошь становилась чудовищно гипертрофированной и нарочито вульгарной. Размах строительства «дворцов иллюзий» был огромным — архитектурная фирма Т. С. Лэмба уже в начале 1920-х годов построила более 300 таких зданий; около 100 зданий построил архитектор Дж. Эберсон. Архитектура оказалась целеустремленно втянутой в орбиту буржуазной так называемой «массовой культуры».
* * *
К 1924 г. капиталистическая система, казалось, стала преодолевать разрушительные последствия первой мировой войны и следовавших за ней революционных потрясений. Начался короткий период ее относительной стабилизации. Рост промышленного производства обеспечивался техническим обновлением промышленности, реконструкцией предприятий и их капиталистической рационализацией, сопровождавшейся усилением эксплуатации трудящихся. Генри Форд с его методами стандартизации и массового конвейерного производства автомобилей стал образцом и для европейских промышленников.
В это время объемы строительства несколько увеличиваются; делаются попытки реализовать те расплывчатые социал-реформистские идеи, которые связывались с архитектурой в предшествующие десятилетия. Особенно широко эти попытки предпринимались в Германии. Ее буржуазия смогла преодолеть разруху и перейти к быстрому восстановлению экономики благодаря широкой помощи, предоставленной в соответствии с выдвинутым американскими монополистами «планом Дауэса». Усиление эксплуатации рабочего класса и обострение классовых противоречий, которыми сопровождалась реконструкция, порождали чреватую взрывом напряженность. Ее-то и должны были ослабить мероприятия по строительству дешевых жилищ, проводившиеся государственными и муниципальными властями.
Присущие капитализму противоречия отнюдь не смягчались в эти годы; это время не было и периодом всеобщего роста производства. Неравномерность развития капитализма лишь усиливала противоречия между отдельными капиталистическими странами, нарастали и внутренние социальные конфликты. Происходила поляризация политических сил. Но даже и частичной стабилизации положил конец опустошительный экономический кризис, разразившийся в 1929 г. и поразивший весь капиталистический мир. Продолжавшийся четыре года, он привел к глубоким изменениям в экономической жизни и политической ситуации.
На этом историческом фоне развертывался один из наиболее интересных этапов развития архитектуры капитализма. Как и в общественной жизни, в ней происходила консолидация сил. Поляризовались прогрессивно-демократическое и реакционное воинствующе-шовинистическое направления. На основе разрозненных экспериментов предшествующих лет складывалась широкая концепция рационализма в архитектуре. Под влиянием советского зодчества в нем становились все более конкретными элементы трезвого социального анализа, которые не могли получить последовательного выражения в рамках капиталистической системы и все же играли решающую роль в становлении позитивных начал архитектурного творчества. В 1921—1924 гг. Запад лишь знакомился с идеями советской архитектуры; во второй половине 20-х годов ее влияние получило конкретное выражение. Оно ощутимо и в самом методе творчества наиболее прогрессивных архитекторов, и в используемых ими приемах композиции, а позднее и в становлении некоторых типов зданий.
Во второй половине 20-х — начале 30-х годов рационалистические течения захватили в свое русло значительную и быстро разраставшуюся часть архитекторов, но отнюдь не всю область архитектуры. Угасавшие тенденции мистического романтизма были подхвачены силами, связанными с политической реакцией. Питаясь идеологией фашизма, а затем и опираясь на его прямую поддержку, они вновь укрепились, получив националистическую окраску.
Сама рационалистическая архитектура этих лет была отнюдь не однородна. Расширяя сферу своего влияния, рационализм включал в нее явления, различные по своему социальному содержанию. Рационализм не породил единого стиля. Рационалистов объединяли мысли об органическом слиянии архитектуры и индустриальной техники, о подчинении структуры сооружения оптимальной системе пространственной организации функций. Признавалась значительная социальная роль архитектуры, однако конкретная ее трактовка была различной. Наиболее существенным признаком общности был самый метод мышления и творчества, основанный на объективном анализе факторов, вызывающих к жизни произведения архитектуры.
Такой метод противопоставлялся эклектическому консерватизму с его попытками вместить жизнь в рамки предвзято избранных традиционных форм и капризной произвольности творчества экспрессионистов. В пылу полемики идеи рационализма получали выражение в плакатно-броской форме, однако стремление к заостренности формулировок часто осуществлялось в ущерб их глубине и конкретности. Но главное — последовательное применение метода — неизбежно упиралось в противоречия, порожденные регрессирующим обществом, самая сущность которого была чужда разумному, рациональному. Рационализм приобретал черты оппозиционности, вбирал в себя элементы социального протеста, отрицания буржуазной действительности.
Однако рождавшееся бунтарство захлебнулось, когда рационализм стал модой: не породив стиля, он стал ассоциироваться с механическим набором конкретных форм; связанные с ним принципиальные произведения терялись среди поверхностных поделок. «Фальшивая монета», широко пущенная в ход, подорвала веру в подлинные ценности. Пределы рационалистического мышления в 1930-е годы стали сужаться до пределов «рациональной организации формы», оно уже не углублялось в социальную сущность явлений, скользя по гладким плоскостям фасадов, холодно-геометричных, подчиненных рассудочной математике пропорций, выверенных «чертежом-регулятором».
Господствующие классы не стали подавлять рационализм в архитектуре, но, как и многие другие «бунтарские идеи», буржуазия исподволь приспособила его для своих нужд, постепенно выхолостив его содержание и лишив его оттенков бунтарства и социальной прогрессивности. Рационалистическая архитектура стала служить вещественным утверждением буржуазной практичности, ее апологией. Она стала обязательным окружением «делового человека», обстановкой сокровенных ритуалов большого бизнеса.
Принципы рационалистической архитектуры получали различное истолкование в зависимости от конкретной социальной задачи. В конечном счете в ней стали формироваться как бы две различные области: одним из полюсов были дешевые дома для рабочих, другим — жилища «для тех, кто наверху», крупные торговые здания, банки, офисы и т. д. Создание уникальных построек подобного рода решительно обособлялось от массового строительства.
Последнее превратилось в объект чисто утилитарной деятельности, экономические и технические аспекты которой оттесняли на задний план аспекты социальные. В этой области рационализм в конечном счете пришел к рутине, механическому повторению приемов; решение эстетических проблем сводилось при этом к лозунгу «красиво то, что хорошо функционирует».
При строительстве коммерческих зданий и богатых особняков эстетическим проблемам придавалось совершенно иное значение. Задача и заказчика, и архитектора в этом случае заключалась в том, чтобы создать нечто запоминающееся, ни с чем не схожее, обеспечив тем самым действенную рекламу. Необщность, броскость становились ценностями, находящими конкретное выражение в коммерческой стоимости сооружения. Отсюда усиливающаяся концентрация внимания архитекторов на вопросах формы, отсюда индивидуализм, стремление к уникальности решений. Задачи формирования архитектурного пространства ставились как чисто эстетические, целесообразность форм трактовалась как некое абстрактное понятие.
Как бы стремясь укрепить веру в трезвую целеустремленность рационалистической архитектуры, получившей в начале 1930-х годов широкое признание, но утратившей к этому времени свой новаторский пыл, приверженцы начинают называть ее функционализмом. Известный швейцарский историк, критик и теоретик З. Гидион внедрил этот термин, как характеризующий всю «нетрадиционную» архитектуру 20—30-х годов, объединив в этом понятии стадии развития рационализма, имевшие весьма различное содержание.
Главными очагами развития и распространения рационалистических идей в архитектуре второй половины 20-х годов были архитектурная и художественно-промышленная школа Баухауз в Германии (точнее, тот круг архитекторов и художников, который сложился вокруг школы) и Ле Корбюзье с группой его единомышленников во Франции.
Сложная эволюция Баухауза на протяжении 20-х годов отразила многие общие черты развития рационализма и его идей. Первая программа веймарского Баухауза (1919 г.) была проникнута духом экспрессионизма и романтикой ремесленничества. Гропиус призывал в ней: «Архитекторы, скульпторы и живописцы, мы снова должны вернуться к ремеслу!.. Итак, мы образуем новую гильдию ремесленников без классовых различий, которые воздвигли бы непреодолимую стену между ремесленником и художником» [В. Гропиус. Границы архитектуры. М., «Искусство», 1971, стр. 225.]. Но в пору нарастания революционной волны трудно было сохранить идиллическую веру в спасительную миссию ремесла. Баухауз, руководимый В. Гропиусом, направил свою деятельность на освоение машинной техники, ставя целью обеспечить массовое производство дешевых, но высококачественных предметов быта, поставить эту технику на службу массовому домостроению. Серийное производство домов противопоставлялось архитектурному индивидуализму, «производству на заказ». В стандарте и серийности В. Гропиус видел условия для решения социальных задач архитектуры, для ее демократизаций. Начиная в Дессау новый период своей деятельности (1925 г.), Баухауз окончательно порвал с экспрессионистским провинциализмом. Новое здание школы само стало как бы манифестом, вещественно утверждающим принципы рационалистической архитектуры. Возможно, что в его асимметричном построении, в контрастах спокойных горизонталей и вертикальных объемов проявилось влияние композиционных поисков Эль Лисицкого, его «проунов».
Постройки немецких рационалистов 20-х годов не вызывают зрительных ассоциаций с машинными формами. Тем не менее в их формообразовании заложен принцип, аналогичный принципу построения механизма, — детерминированность функциональных процессов. Здание, как и машина, предназначенная для осуществления заданной последовательности операций, расчленялось в точном соответствии с графиком функции. Материальная структура здания определяла пространства, точно отвечавшие пространственной системе жизненных процессов, но она была приспособлена только к этой системе и ни к какой иной. Это — рационализм «одномоментный», лишенный устремления в будущее. Расчленение процессов в пространстве не только выражало их последовательность, но и закрепляло ее на все время существования сооружения.
Пространство, организованное в соответствии с логикой функциональных процессов и биологическими потребностями человека, было первоосновой композиции. Социальная роль архитектуры декларировалась Гропиусом, но в конкретной разработке функциональных проблем она отступала перед чисто организационными схемами, к которым сводились сложные совокупности жизненных процессов.
Обновленный Баухауз претендовал на то, чтобы стать символом единства рационалистической архитектуры, объединяющим центром для его приверженцев. Но самый коллектив школы был неоднородным, как и направление в целом. Уже через два-три года сам Баухауз охватила внутренняя борьба, которая принудила В. Гропиуса оставить школу.
В 1928 г. в Баухаузе взяло верх радикально-демократическое крыло рационалистов. Ганнес Мейер, новый руководитель, выработал программу, антиэстетский характер которой был близок теориям советских конструктивистов (А. Ган, М. Гинзбург). Однако в позитивной части программы Мейер не пошел дальше общего утверждения социальной значимости архитектуры и ортодоксального утилитаризма. В установке на аскетическую обнаженность предельно экономичных структур косвенно заключалось отрицание уникального строительства для немногих в пользу строительства, удовлетворяющего нужды масс. Подразумевалось, однако, что последнее должно ограничить свои задачи удовлетворением самого скупого минимума биологических потребностей.
Другая часть Баухауза объединилась вокруг Л. Мис ван дер Роэ, продолжавшего направление экспериментов группы «Де Стиль». Этот мастер сосредоточил свои интересы на проблемах формально-эстетических, в первую очередь на формировании пространственных систем, части которых связаны и как бы свободно «переливаются», образуя динамическое единство. Он сумел дать конкретное выражение многим приемам, вошедшим в арсенал форм современной архитектуры. Но стремление к эстетическим поискам, не связанным функциональной обусловленностью, неизменно уводило Мне ван дер Роэ от массового строительства, социальную роль которого декларировал и он.
Подобное расслоение стало характерным для всей рационалистической архитектуры на рубеже 20-х и 30-х годов, хотя шло оно сложными путями, отнюдь не допускавшими поголовную «сортировку» ее приверженцев по определенным категориям.
Деятельность немецких рационалистов была связана с муниципальным строительством дешевых жилищ, которое после 1924 г. развернулось в Германии шире, чем в других западноевропейских странах. Крайняя ограниченность бюджетов этих строек побуждала к поискам наиболее экономичных решений. Функции жилья скрупулезно изучались методами, идущими от тейлоровской научной организации производства. Жизненные процессы расчленялись на элементы, определялось минимально необходимое пространство для каждой первичной функции, отыскивались наиболее целесообразные и компактные системы связей между ними. Биологические потребности человека и «технология» быта образовывали при этом два ряда объективных факторов, которым подчинялась организация жилища. Дешевое жилье определялось как элементарный минимум пространства, обеспечивающий беспрепятственное осуществление «стандартизированных» потребностей. По словам В. Гропиуса, при этом брались за образец купе железнодорожного вагона или каюта парохода, в которых обоснован разумный и целесообразный «вещный минимум» [«Академия архитектуры», 1936, № 3, стр. 35.].
Позитивным результатом этих исследований было определение возможных вариантов планировки экономичного жилища, тип которого отвечал, казалось, жизненному укладу рабочего класса. Но нельзя не чувствовать, что архитекторы изучали жизнь рабочих «извне», выполняя достаточно ограниченную в общем-то задачу — обеспечить тот жилищный минимум, который биологически необходим для восстановления рабочей силы. Они использовали для интенсификации жилища те же методы, которые применялись и для интенсификации труда на капиталистических предприятиях.
Рождались постройки, формы которых четки, как математические формулы, постройки, диктовавшие своим обитателям строгую последовательность жизненных циклов. Эстетическое возникало здесь лишь как косвенный результат удовлетворения утилитарных нужд и конструктивной целесообразности. На этих действительно предельно экономичных постройках основывалась обманчивая репутация функционализма вообще как метода проектирования, обеспечивающего самые дешевые здания. Заметим, что в годы кризиса и экономической депрессии именно эта репутация способствовала распространению функционалистической архитектуры.
Деятельность левого крыла Баухауза (Г. Мейер, Г. Шмидт, О. Хезлер и др.) и таких муниципальных архитекторов, как Э. Май, создала мнение о немецкой архитектуре второй половины 20-х годов как о рассудочно-сдержанной, предельно экономичной. Эта характеристика неточна и неполна даже для рационализма, который завоевал значительное место, но отнюдь не господствовал тогда в Германии. Однако именно на этих качествах основывался международный авторитет немецкой архитектуры, ее влияние на архитекторов других стран в конце 20-х — начале 30-х годов. Другие ее течения, связанные с националистическим романтизмом и классицизмом, были глубоко провинциальны по своему духу и уровню и не привлекали интереса.
Немецкие функционалисты были сравнительно многочисленны, они выполняли крупные заказы в области муниципального строительства, осуществляли сооружения различных типов. Ле Корбюзье во Франции поддерживала лишь небольшая группа молодежи; он не получал заказов на значительные постройки. Однако принципиальность экспериментов, осуществленных в небольшом масштабе, поддержанная его ярким талантом полемиста и пропагандиста, обеспечила ему роль активнейшего распространителя идей архитектурного рационализма в Европе и за ее пределами.
Идеи рационалистической эстетики в его книгах и статьях приобретали яркость и конкретность. Композиционные принципы он сводил к системе четко сформулированных нормативных положений. В конечном счете метод кристаллизовался у него в ряд рекомендаций, рецептуру, доступную рядовому архитектору-ремесленнику. Это немало способствовало и распространению формальных признаков рационализма и в то же время утрате его исходных принципов, перерождению метода в набор приемов и форм.
Первые книги Ле Корбюзье почти не содержали позитивных положений архитектурной эстетики. Он ниспровергал сложившиеся взгляды, расчищая дорогу новым идеям. Его сознанием владели геометрические диаграммы обнаженных железобетонных каркасов — след влияния О. Перре. В 1925 г. Ле Корбюзье начал несколько небольших построек, где добивался выразительности пространственной композиции и эффектных контрастов форм, используя свойства конструкций из железобетона и пластичность этого материала. Возникла серия домов со строго прямоугольными общими очертаниями плана и силуэта и характерными текучими поверхностями криволинейных в плане монолитных бетонных перегородок. Наружные ограждения подвешены к каркасу. Их ненагруженность выявляют ленты горизонтальных окон. Дом поднят над землей на пилонах. Несущая конструкция благодаря этому выходит за пределы оболочки, становится зримой.
Развитие железобетонных конструкций инженерами и применение их архитекторами в то время еще шли независимо. Первыми железобетон уже был понят как принципиально новый материал, открывающий путь к тонкостенным пространственным конструкциям. Архитекторы продолжали использовать его как замену дерева в стоечно-балочных каркасах. Ле Корбюзье обратил внимание на пластичность монолитного бетона, возможность создания из него криволинейных поверхностей, контрастных геометрическим формам несущего каркаса. Интуитивно, руководствуясь своим эстетическим чутьем, он пошел навстречу поискам инженеров.
Развивалась и позитивная часть его теоретической концепции. Законы формообразования, диктуемые спецификой железобетона, он пытался выразить в пяти тезисах, которые создали величайший соблазн освоения новой архитектуры легким путем, как в свое время канон Виньолы «освобождал» от необходимости постижения смысла классических ордеров. Стойки каркаса, заменившие стены и поднимающие дом над землей; плоская кровля, превращенная в сад; свободная система плана, при которой расчленение пространства не зависит от размещения тонких несущих опор; горизонтальные окна; свободное формирование плоскости фасада, превращенного в ограждение, подвешенное к несущему каркасу, — таков «фундамент новой эстетики», провозглашенной Ле Корбюзье. Он стремился доказать функциональную и конструктивную детерминированность пяти пунктов, но неизменно переходил от аргументов, основанных на утилитарной целесообразности, логике, к аргументам эстетическим (геометрическая чистота, «сила венчающей композицию горизонтали» и т. п.). Трезвая логика анализа, идущая от Тейлора и Форда, сливалась с формальными устремлениями пуристской живописи, а в чем-то и отступала перед ними.
Но если Ле Корбюзье в своих ранних выступлениях провозгласил дом «машиной для жилья», то позднее, в 1929 г., он писал: «нельзя было бы пустить в ход эту «жилую машину», если бы она не удовлетворяла духовным запросам. Где начинается архитектура? Она начинается там, где кончается машина» [Архитектура современного Запада. М., Изогиз, 1932, стр. 44.]. Логические системы теоретических концепций Ле Корбюзье развивались по им самим установленным законам, замыкаясь, в конечном счете, в сфере проблем формы. Архитекторы Баухауза стремились к трезвому реализму, у Ле Корбюзье рациональное служит оправданием эмоциональному.
Середина 20-х годов была временем, когда острый интерес стали вызывать проблемы градостроительства. Развитие производительных сил заставляло предъявлять новые требования к функциональным качествам городов, но рост транспорта уже вступил в противоречие с их сложившейся структурой.
Возможности приемов городской планировки, идущих от османновской реконструкции Парижа или теорий Камилло Зитте, исчерпали себя. Предложения, связанные с принципиальными изменениями в формировании городских комплексов, во многом отражали принципы пространственной композиции, развивавшиеся в структуре отдельных зданий («свободный план», слитность пространств). Важное значение для развития новых идей получили проекты и теоретические работы Ле Корбюзье и архитекторов Баухауза.
Ле Корбюзье в 1922—1925 гг. выступил с проектом «идеального города» на 3 млн. жителей и приложением его принципов к реконструкции Парижа, так называемым «планом Вуазен». Свое внимание он сосредоточил на улучшении физических свойств городской среды и организации транспорта. Высокую плотность населения Ле Корбюзье считал неизбежной для современных городов, но «концентрация по вертикали», вплоть до применения 60-этажных небоскребов, при одновременном разрежении построек должна была избавить город от расползания переуплотненных городских массивов средней этажности. Группа свободно стоящих крестообразных в плане башен делового центра и корпуса жилых районов, протянувшиеся среди зелени по линиям, напоминающим очертания меандра, противопоставлялись замкнутости традиционных периметрально застроенных кварталов. Улицы, не зависящие от домов, должны были полностью принадлежать автомобилю; дороги для пешеходов изолировались от транспортных магистралей.
Во внесении стандарта в застройку Ле Корбюзье видел и необходимое условие внедрения индустрии в строительство, и зримое выражение структуры современного города. Художественная выразительность города должна, по его мнению, определяться не достоинствами отдельных зданий, а их группировкой, пространственной композицией, которая становится очевидной благодаря открытости системы. Строгость форм, присущая плодам достижений технического прогресса, должна сочетаться со свободной красотой природного окружения, заполняющего обширные, открытые глазу пространства.
Основные функции капиталистического города Ле Корбюзье рассматривал, однако, как нечто безусловное. Он лишь предлагал упорядочить их размещение на территории, организовав функциональные зоны для промышленности, для «деловой жизни», для жилья и для отдыха. В его проектах над городом господствует деловой центр, однако для развития культурной и общественной жизни нет места. В большой мере фиктивны и обширные зеленые пространства: при плотности, которую предусматривал Ле Корбюзье, почти вся незастроенная площадь потребовалась бы для стоянки автомашин.
Структура планов Ле Корбюзье подчинена любованию холодной ясностью чертежа. Их симметричные прямоугольные схемы, рассеченные диагональными магистралями, несут на себе отпечаток академических традиций «Эколь де Боз’ар», унаследованных через О. Перре. Но при всей противоречивости «идеальные города» Ле Корбюзье способствовали пересмотру принципов пространственной композиции в градостроительстве. Они помогли найти некоторые целесообразные приемы организации жилых комплексов, ставшие общепринятыми в 50-е годы, — такие, как застройка отдельно стоящими объемами, снижение плотности застройки за счет увеличения этажности, последовательное отделение транспортных артерий от пешеходных путей и жилищ. Плодотворной была сама мысль перенести приемы открытой, лишенной замкнутости композиции на обширные пространства жилого комплекса.
Для немецких рационалистов центральной проблемой градостроительства было создание жилых комплексов, обеспечивающих «биологический минимум» солнца и воздуха для всех жилищ. Их социальная программа ограничивалась оздоровлением городской планировки и развертыванием строительства стандартных домов. Как и Ле Корбюзье, периметральной обстройке кварталов они противопоставляли постановку зданий, окруженных пространством.
Одинаковые дома располагались параллельными рядами, так, чтобы все квартиры были одинаково обращены к солнцу, а воздух свободно «протекал» вдоль рядов. К улицам с их потоками транспорта были обращены глухие торцевые фасады. Обеспечивалась равноценность проветривания, инсоляции и связи квартир с внешней средой. При этом без повышения стоимости удавалось решительно улучшить гигиенические стандарты жилищ. Многих архитекторов подкупала механическая простота приема строчной застройки, его «автоматизм». Ле Корбюзье выдвигал широкие градостроительные замыслы; архитекторы Баухауза предлагали понятные и легко исполнимые рецепты. Поэтому строчная застройка, в отличие от идей Ле Корбюзье, легко и быстро распространилась в практике многих стран.
В тех случаях, однако, когда строчная застройка использовалась как универсальное решение для больших комплексов, обезличивались и становились аморфными обширные части городской среды. Равномерно дробное расчленение пространств затрудняло организацию коммунального обслуживания. Эстетическая идея бесконечных метрических рядов, в которой видели выражение «духа современного города», впечатляла лишь на чертежах и макетах. Осуществленная в натуре, она подавляла своей монотонностью. Однако приемом строчной застройки разрушалась традиционная замкнутость жилых комплексов, утверждался рациональный подход к их организации.
Попытка объединить в одной пространственной системе элементы «города башен» Ле Корбюзье и строчную застройку была сделана в 1932—1933 гг. архитекторами Э. Бодуэном и М. Лодсом при строительстве рабочего поселка Ла Мюэтт под Парижем. Объемно-пространственная композиция комплекса основывалась на различии типов зданий, определяемых демографическим составом населения. Работа Бодуэна и Лодса вслед за проектами И. Леонидова предвосхищала принцип «смешанной застройки», получивший теоретическое обоснование и широкое распространение на практике уже после второй мировой войны.
Попытка перейти от решения проблем архитектуры в пределах здания и его ближайшего окружения к организации города в целом была шагом вперед при всей ограниченности тех реальных результатов, которые были достигнуты на первых порах.
Распространению новых направлений в 20-е годы способствовали международные конкурсы на проекты крупных сооружений, позволяющие сопоставить результаты работы архитекторов. Но в конце 1920-х годов приверженцы рационалистической архитектуры стали искать и другие формы организованных контактов. В 1927 г. в Штутгарте открылась Международная выставка жилищного строительства, главным архитектором которой был Л. Мис ван дер Роэ. Он привлек к участию в ней европейских специалистов, чей вклад в жилищное строительство считал наиболее значительным. Они создали проекты экспериментальных построек-экспонатов, будучи ограничены единственным условием: крыши всех домов должны были быть плоскими.
Значение выставки заключалось не только в том, что она была первым солидарным выступлением архитекторов разных стран (немцев Л. Мис ван дер Роэ, П. Беренса, В. Гропиуса, Л. Хилберзаймера, М. Таута, Б. Таута, Г. Шаруна, А. Радинга, А. Шнека, Р. Декера, австрийца П. Франка, голландцев И. П. Ауда и М. Стама, француза Ле Корбюзье), но и в том, что непосредственное сопоставление наглядно продемонстрировало близость их творческого метода и сходство формальных приемов. Выставка была вместе с тем демонстрацией сильнейших сторон рационализма, проявлявшихся полнее всего именно в жилищном строительстве.
Идея «интернациональной архитектуры», международного утверждения рационалистического направления, которую еще в 1925 г. высказал В. Гропиус, получила реальное выражение. Гропиус писал: «Обусловленное мировыми связями и мировой техникой единство внешних признаков современной архитектуры выходит за естественные границы, определяемые национальным и личным» [Мастера архитектуры об архитектуре. Зарубежная архитектура. Конец XIX—XX век. М., «Искусство», 1972, стр. 333.]. Полемика с приверженцами национального романтизма, толкая к заострению формулировок, вызывала упрощение лозунгов, а вместе с ними и понятий. Единство трактовалось не как общность принципиальной направленности, предполагающая многообразие проявлений в зависимости от конкретных условий, но как устранение национальных и индивидуальных различий в архитектуре, повсеместное утверждение общих стереотипов.
Лозунги, призывавшие к интернациональному единству в архитектуре, в те годы с особым сочувствием встречались прогрессивными кругами. В обстановке острой борьбы с нарождающимся фашизмом и связанными с его идеологией национал-шовинистскими тенденциями они имели определенное политическое значение. Эти лозунги находили поддержку в последовательном классовом интернационализме советских архитекторов, с интересом отмечавших искания, которые «выковывают новый интернациональный язык архитектуры, близкий и понятный, несмотря на пограничные столбы и барьеры» [М. Гинзбург. Международный фронт современной архитектуры. СА, 1926, № 2, стр. 41.].
Была сделана и попытка организационно оформить образование «интернациональной архитектуры». Группа ее приверженцев собралась в июне 1928 г. в Швейцарии, в замке Ла Сарра, чтобы закрепить единство, которое обнаружилось на выставке в Штутгарте. Рабочие документы совещания подготовили Ле Корбюзье и З. Гидион. Оно декларировало начало регулярных международных конгрессов современной архитектуры (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne), провозгласив себя первым в их серии (CIAM-I). Архитекторы, подписавшие декларацию, призывали к «поискам гармонизации элементов этого мира», к «возврату архитектуре принадлежащего ей по праву места в удовлетворении экономических и социальных потребностей человеческой личности».
CIAM-II, состоявшийся во Франкфурте-на-Майне, окончательно определил структуру организации, включавшую три органа: конгресс, или общее собрание членов; международный комитет для подготовки резолюций по проблемам современной архитектуры (CIRPAC), которым избиралось и руководство CIAM, и рабочие группы для проработки конкретных проблем вместе со специалистами-архитекторами. Первые конгрессы созывались для обсуждения серьезно подготовленных конкретных докладов — «Минимальное жилище» Э. Мая (CIAM-II) и «Рациональная планировка жилых участков» В. Буржуа (CIAM-III). Одной из своих главных целей организация объявила борьбу с академизмом, заводящим архитектуру в тупик. Но элементы академизма стали постепенно проявляться и в самой деятельности CIAM, «просвещенный деспотизм» руководящей группы исключал принципиальные дискуссии внутри организации. Декларации и материалы «конгрессов» облекались в форму рецептов, звучали догматично и непререкаемо. Распространение рационалистических идей с помощью этой организации получало широту в значительной мере за счет глубины. Только что сформировавшийся в работах немногих экспериментаторов рационализм «дряхлел», распространяясь по земному шару.
Интернационализм CIAM, какое-то краткое время казавшийся своеобразным откликом налаживавшихся международных связей в пролетарском движении, имел на деле весьма ограниченное значение. Оно сводилось к пропаганде довольно узкого круга конкретно-профессиональных проблем. Получил поддержку не рационалистический метод в его первоначальной чистоте, а лишь еще неразвившийся и негибкий, но уже канонизированный словарь форм, в котором зачинатели метода искали его выражения.
Повсеместное насаждение независимо от конкретных условий среды и климата «рациональных» форм и приемов, возникших в конкретных условиях Германии и Франции, вело подчас к парадоксальным противоречиям с самим принципом рационализма. Раньше всего и с наибольшей очевидностью такие противоречия обнаружились в северных странах Европы с их суровым климатом и своеобразным ландшафтом. Архитектура абстрагировалась от своего окружения, природно-климатических условий, строительных традиций, ресурсов материалов, от тех требований, которые к ней предъявлялись. Единство оборачивалось конформизмом. Универсальные решения функционализма оказывались подчас не более отвечающими конкретным условиям, чем догматы классицизма.
Интернационалистические идеи постигла та же судьба, что и рационалистическую архитектуру в целом — их бунтарство было выхолощено, омертвлено буржуазностью. Они постепенно потеряли значение, которое вкладывалось в них первоначально. Повсеместным повторением одних и тех же форм как бы утверждалось: «у нас то же, что и везде, иное невозможно». Подчас «интернациональные формы» становились одним из средств экспансии в области культуры, осуществлявшейся крупными державами не только в странах слаборазвитых и зависимых, но и в малых государствах Европы.
К рационалистической архитектуре примыкали, однако, не только те, кто видел в ней последнюю моду или набор легко усваиваемых приемов. Молодые талантливые мастера в некоторых странах, сумев нащупать «рациональное зерно» метода, ломали формальные каноны. Одновременно с фантастически быстрым распространением направления, которое уже в 1932 г. американский искусствовед Р. Хичкок окрестил «интернациональным стилем», происходил процесс его расслоения, фактического возникновения новых направлений.
К началу 1930-х годов этот процесс захватил все европейские страны. Дольше всех сопротивлялась новым веяниям Англия. «Интернациональный стиль» перешагнул и через океан, получая распространение в латиноамериканских странах. Особенно интересными были первые шаги рационалистической архитектуры в Мексике, где ее развитие связывалось с попытками разрешить социальные проблемы путем строительства жилищ для трудящихся.
Парадоксом истории было то, что в США идеи рационалистической архитектуры проникли уже в качестве европейской моды. К началу 30-х годов уроки «чикагской школы», впервые их провозгласившей, были прочно забыты в Америке. Работы европейских участников конкурса на проект здания газеты «Чикаго трибюн», проведенного в 1922 г., казались откровением, хотя одна из наиболее значительных — проект В. Гропиуса — во многом воспроизводила характер построек Л. Салливэна. В начале 1930-х годов интернациональный стиль проявился в строительстве высотных зданий США. Однако, пожалуй, ни в одной другой стране он не был воспринят столь поверхностно.
Развитие рационалистического направления было главным явлением в поступательном процессе развития архитектуры капиталистических стран между 1925 и 1932 гг. Еще раз следует подчеркнуть, однако, что его произведения и в то время не имели количественного преобладания в общем объеме строительства. Вялый академизм и ремесленническая эклектика еще занимали основное место. Наряду с этим определялись и черты направлений, служивших наиболее реакционным политическим силам Европы — итальянскому и немецкому фашизму.
До своего закрепления у власти в 1926 г. итальянские фашисты, выдвигая свои претензии к архитектуре, опирались на истерический «активизм» футуристов, кокетничали с благосклонностью к авангардистскому искусству. Позднее дуче предпочитал картинно замирать на фоне помпезных классицистических декораций, а в годы первых военных авантюр обратился к лозунгам «неоромантизма». Насущные проблемы экономики надеялись решить в будущем за счет стран, побежденных в войнах, и вместо строительства жилищ создавали площади и эспланады для митингов и шествий.
Архитекторов подкупали выгодными заказами или подавляли, лишая, работы. Принципиальных и смелых опутывали демагогией, подсовывая фиктивные идейные ценности. И эта демагогия какое-то время действовала. Честные, талантливые люди были обмануты иллюзиями национального возрождения, ложно истолкованной гражданственности. Выполняя задания фашистского государства, они искренне считали, что, стремясь создать хорошую архитектуру, они улучшают свою страну. Отрезвление было трагичным.
Установление фашистских диктатур знаменовало переход итальянской и немецкой буржуазии от методов «традиционной» парламентской формы управления к методам открытого террора и насилия. Итальянский фашизм широко использовал демагогию и маневрирование. Пришедший к власти в обстановке экономического кризиса после долгой борьбы с активно сопротивлявшимся сознательным пролетариатом, германский фашизм был более прямолинеен в своей деспотической жестокости.
Искусство и архитектура пользовались особым вниманием Гитлера — бездарного художника-недоучки. Со всей неукоснительностью посредственности, которая уверовала в свою исключительную миссию, он декретировал в этих областях.
Шовинизм и расизм, исковерканные обрывки иррационалистической философии Шпенглера и Ницше мешались с примитивно мещанскими «идеалами красоты» в его убогой «теории искусства». Экспрессионизм Гитлер отвергал, называя его «еврейско-большевистским» и «дегенеративным искусством». В несмелых социальных замыслах функционалистов, их призывах к интернационализму и связях с советскими архитекторами он усматривал особенно опасную крамолу. Эти направления были объявлены «культур-большевизмом» и подавлены в Германии почти сразу же после захвата фашистами государственной власти. Разгром наиболее сильной профессионально и наиболее реалистичной по своей направленности группы архитекторов-рационалистов нанес тяжелый удар всему направлению в целом.
Фашисты стремились манипулировать массами, внедряя в их сознание иррациональные образы, мифы, вытесняющие активное восприятие действительности. Тоталитарные мифы фашизма внедрялись не только через каналы массовых коммуникаций, но и всеми средствами организованного воздействия, которыми располагали фашистские государства. Их пропагандистскому аппарату было подчинено и развитие архитектуры. Она должна была создать декорации для мифов фашизма, придать видимость достоверности их образам, перевести их в некий «возвышенный план».
В отличие от итальянского немецкий фашизм провозгласил свою конкретную программу в области архитектуры, основанную на утверждениях о «незыблемости вечных законов прекрасного», связанных с «греконордическим» направлением искусства. Конкретное воплощение примитивных догматов программы в зданиях, служивших государственной машине и аппарату нацистской партии, связывалось с огрубленным и выхолощенным классицизмом, тяготевшим к тяжелой мрачности и гипертрофированному масштабу симметричных форм. Истоки этого псевдоклассицизма восходят к шовинистическим тенденциям, развивавшимся в Германии еще перед первой мировой войной. На его основе и была создана официально насаждавшаяся антигуманная и примитивная архитектура «Третьей империи», противостоявшая прогрессивным тенденциям, кристаллизовавшимся в рационалистической архитектуре конца 20-х годов. В соответствии с рецептами тех же кайзеровских времен для рядовых построек («фольксбаутен») предписывался «новосредневековый» стиль — крутые черепичные кровли, кирпичные стены, готические надписи, упрощенное воспроизведение деталей архитектуры средних веков.
* * *
Мировой экономический кризис и наступление фашистской реакции положили конец периоду развития архитектуры капиталистических стран, начавшемуся вместе с относительной стабилизацией капитализма. 1933 год начал собой новый, недолгий этап ее развития, оборванный в 1939 г. второй мировой войной. Глубокая экономическая депрессия, последовавшая за кризисом 1929—1933 гг. и перешедшая в новый кризис 1937 г., была фоном, на котором происходило развитие архитектуры в этот период. В разных частях земного шара уже разгорались войны, складывались враждующие коалиции капиталистических государств, ощущалось приближение той роковой грани, за которой началась самая кровопролитная война в истории человечества.
Общая неуверенность в будущем, экономические потрясения, нарастающая опасность фашизма тормозили строительство, лишали реальной почвы ту «новую архитектуру», которая только что получила международное признание. Разочаровавшись в иллюзиях великой социальной миссии рациональной архитектуры, архитекторы, примкнувшие к функционализму, уже не пытались влиять на решение социальных проблем. Экономическая и политическая ситуация 30-х годов вызвала к тому же резкое сокращение реформистских экспериментов (одним из самых крупных к началу десятилетия было муниципальное строительство в Вене).
Основные интересы архитекторов сосредоточивались на чисто профессиональных проблемах. Функционализм, утрачивая свои социальные претензии, становился модой. Но век любой моды недолог. Стала отходить мода и на функционализм. Его «божественная геометрия» и деловитая динамичность не соблазняли более буржуазного заказчика. Реальная жизнь так жестоко показала свою непостижимую для буржуа «алогичность», что рассудочность рационалистов, стала казаться далекой от жизни, сухой и вместе с тем наивной. Для такого заказчика вновь стал привлекателен чуть подновленный классицизм, статичный и солидный, создававший иллюзию устойчивости существования. Геометрическим обобщением форм ему старались придать «современную», но в меру, деловитость. В архитектуре официальной усилилась тенденция к парадной представительности, также воплощавшаяся в классицистические схемы.
Приверженцев функционализма сближали отрицание традиций, борьба против эклектической архитектуры, но цели этой борьбы не всегда были едины. Когда направление достигло победы и признания, его внутренние противоречия раскрылись в полной мере. Поэтому функционализм оказался не в состоянии удерживать завоеванные позиции, его упадок был таким же быстрым, как и становление.
Кризис капиталистического общества некоторыми представителями либеральной интеллигенции был воспринят как кризис «механической цивилизации», века техники и порожденного ею рационализма. Рационалистическая логика казалась им теперь неубедительной. Как и в изобразительном искусстве, в архитектуре возникли иррационалистические тенденции, нашел отклик сюрреализм (последний, правда, не оказал такого значительного влияния на архитектуру, как экспрессионизм в начале 20-х годов). Обрели широкую популярность и идеи органической архитектуры, своеобразная «натурфилософия» Ф. Л. Райта.
Интернациональный стиль в столкновении с широким разнообразием местных условий в различных странах стал распадаться. Его разрушали и антирационалистические тенденции, и стремления найти специфическое для различных стран выражение принципов рационализма.
В Германии рационалистическая архитектура попала под запрет, ее зачинатели и приверженцы вынуждены были эмигрировать. Францию захватила новая волна модернизированного классицизма; Ле Корбюзье остался почти одиноким. В США сложилось эклектическое сочетание «подновленного» классицизма, функционализма и стиля модерн — своего рода архитектурное эсперанто, по выражению Л. Мумфорда, т. е. язык, имеющий свой словарь и свою грамматику, но не имеющий литературы.
На эту архитектуру оказал влияние так называемый «стайлинг» — оформление предметов быта, на которое распространился своеобразный «технический романтизм». Из авиастроения обтекаемые формы были перенесены на автомобиль — уже без особой необходимости. «Динамичные» силуэты и линии стали, не без воздействия рекламы и моды, эстетическим пристрастием. Подчеркнуто текучие, плавные линии, вызывающие представление о скорости, стали определять и облик таких заведомо статичных предметов бытовой техники, как радиоприемники, настольные лампы и т. п. Распространению «текучих» форм в дизайне благоприятствовало удобство их изготовления штамповкой и прессованием. Давление моды заставляло переносить их в архитектуру вместе с отделкой фасадов хромированной сталью (наподобие хромированных молдингов автомобильного кузова).
Функционализм 30-х годов получил наиболее яркое прогрессивное развитие в Чехословакии. Здесь наряду с идеалистическим утопизмом и реформистскими идеями возникло и стремление развить концепции рационалистической архитектуры на основе марксизма.
Левый фронт — организация прогрессивных работников культуры, примыкавшая к коммунистической партии Чехословакии, — создал архитектурную секцию, развивавшую идеи, близкие к советскому конструктивизму. Особый интерес этой группы привлекало решение жилищной проблемы и формирование коллективного жилища. Возникший на основе левого фронта Союз социалистических архитекторов искал пути к созданию архитектуры нового, социалистического строя, подготавливая формы организации проектного дела, на которые смогли в конце 40-х годов прямо опереться архитекторы народной Чехословакии.
Чехословакия в 30-е годы оставалась едва ли не единственной капиталистической страной, где развивались социальные аспекты рационалистической архитектуры. Здесь это направление не переродилось в поверхностную моду, напротив, оно приобрело глубину и целеустремленность. Трагическая судьба страны, преданной западными союзниками и ставшей уже в 1938 г. жертвой фашистской агрессии, не позволила развиться этому интереснейшему явлению.
В 30-е годы всеобщее внимание привлекло творчество архитекторов стран Северной Европы — особенно Финляндии и Швеции. Они обладали бескомпромиссностью, которую в других странах утратили вчерашние бойцы, превратившиеся в общепризнанных «мэтров». Принципы функционализма в творчестве северян получали новое, острое и свежее истолкование. Их произведения, неразрывно связанные со специфическими условиями северной окраины Европы, с ее суровым ландшафтом и самобытной культурой, были глубоко национальны и вместе с тем всецело отвечали стандартам современности, установленным функционалистами.
Во многих странах, обладавших вековыми культурными традициями, преемственность их в архитектуре обрывалась. В Финляндии с ее скудной историей зодчества национальная традиция возникла почти заново, живая и развивающаяся. Виртуозное использование дерева, новые, неожиданные приемы применения материала, о котором казалось бы все известно уже столетия, было лишь внешним атрибутом складывавшейся национальной архитектурной школы. Ее сутью было понимание архитектуры как части комплексной среды, где ландшафт, постройки, предметы, создаваемые декоративно-прикладным искусством и дизайном, образуют единое целое. Понимание архитектуры как среды имело большое значение и для формирования новых архитектурных школ Швеции, Дании и Норвегии.
1930 год был рубежом, за которым функционализм получил признание в странах Северной Европы, быстро вытеснив эклектику и изжившее себя национально-романтическое направление. Своеобразная версия неоклассицизма, развивавшаяся здесь в 1925— 1930 гг., своими четкими композиционными схемами и скупыми геометрическими формами подготовила эстетическое восприятие построек архитекторов рационалистического направления. Показательно, что толчком к широкому признанию функционализма в северных странах была художественно-промышленная выставка в 1930 г. в Стокгольме, где демонстрировались комплексно оборудованные жилища. Идея рационального формирования предметной среды во всех ее компонентах пропагандировалась убедительно и доходчиво.
Имена ведущих архитекторов Финляндии и Швеции— Алвара Аалто, Гуннара Асплунда и Свена Маркелиуса — получили мировую известность в 30-е годы. Эти мастера не замыкались в кругу ортодоксальных доктрин функционализма. В творчестве Аалто развивались эксперименты тех немногих архитекторов 20-х годов, которые не ограничивали себя использованием простых геометрических форм, но изучали и логику формообразования сложных структур, созданных природой (как, например, Г. Херинг). Асплунд целеустремленно искал те наиболее общие закономерности построения архитектурного организма, которые могли бы связать функционализм с традицией архитектурной классики, поставить его в единый ряд поступательного движения зодчества. Маркелиус кроме строгих построек, во многом отражавших опыт советского конструктивизма, создавал и здания, в которых стремился в рамках рационалистических принципов использовать традиции народного строительства Швеции.
Признание прямого угла основной определяющей ценностью, сведение объемных форм архитектуры к «великим элементарным формам» — кубам, конусам, сферам, цилиндрам или пирамидам — было первой догмой ортодоксального функционализма, от которой отошли финские и шведские архитекторы, признавая необходимость использования рациональных форм, определяемых более сложными закономерностями. Второй отвергнутой догмой было использование одних лишь искусственных материалов или гладкой отделки, уничтожающей значение свойств материала. Архитекторы северных стран Европы не избегали природных материалов: естественного камня и, в особенности, дерева (позднее они будут отдавать им явное предпочтение). Сооружение и рельеф казались существующими в неразделимом единстве. И, наконец, архитектура северян возвратилась к материальности, ее вещественность не растворялась в стеклянных экранах навесных стен, она вновь стала ясно ощутимой. Организация естественного и искусственного освещения стала важным фактором формирования внутреннего пространства и создания его художественного образа. Для архитекторов Баухауза и Ле Корбюзье в 20-е годы архитектура — прежде всего пространство (так же, как для неоклассицизма того времени архитектура — прежде всего импозантный фасад). Скандинавские архитекторы начинают воспринимать архитектуру как организующую основу среды обитания человека, как важный фактор, влияющий на его поведение.
Обращение к национальной традиции, к использованию опыта народного зодчества особенно последовательно развивалось в Швеции. Применение местных материалов, к которому понуждали нараставшие перед началом войны трудности с ввозом цемента и арматурной стали, все более расширялось. Складывалось своеобразное архитектурное течение, названное впоследствии «неоэмпиризмом». Вместе с С. Маркелиусом его возглавили более молодые мастера — С. Бакстрем и Л. Рейниус.
Постепенное изменение функционалистического направления получило весьма симптоматичное выражение и в творчестве Ле Корбюзье, расставшегося с геометричностью своих ранних построек. Его градостроительные проекты 30-х годов (Злин, Немур, 1935 г.) — уже не идеальные абстракции, какими были работы предшествующего десятилетия. Структура их гибко связана с топографией участка. В проекте планировки Алжира радикальные, неожиданные и вместе с тем целесообразные предложения выливаются уже в форму, зависящую и от новых художественных увлечений Ле Корбюзье, связанных с сюрреализмом. В его постройках вместе с отказом от четкого геометризма форм проявляется интерес к естественным материалам, живописности их фактур, а вместе с тем и интерес к народному строительству в его простейших проявлениях. Такие изменения в творчестве общепризнанного к тому времени лидера функционализма были весьма знаменательны.
В 30-е годы «ядром кристаллизации» нового направления, становящегося в оппозицию к функционализму, было и творчество Ф. Л. Райта. Его концепция органической архитектуры в 30-е годы была подкреплена произведениями ярко индивидуальными и вместе с тем как бы естественно вырастающими из природной среды. Интерес к этому мастеру усилился еще и благодаря тому, что его творчество оказалось созвучным тому новому направлению поисков, которое представляли работы финских и шведских архитекторов. Развитие идей органической архитектуры, подразумевавших не только тесный контакт с природным окружением, но и подчинение постройки всей совокупности конкретных условий и жизненных задач в их неповторимом своеобразии, требовало создания композиций, обладавших национальными и местными особенностями. Именно эти стороны концепции Райта, а не его индивидуализм, не его стремление рассматривать человека вне связей с обществом, стали находить широкое отражение в работах архитекторов Западной Европы. Не случайно работы последователей Райта критика пыталась объединить под рубрикой «регионального» стиля (в противовес «интернациональному» стилю как именовали тогда ортодоксальный функционализм).
Иллюзия единства направления, установившегося в архитектуре развитых капиталистических стран, оказалась на редкость непрочной. Международные выставки в Париже в 1937 г. и в Нью-Йорке в 1939 г., сооружения которых создавались по проектам архитекторов стран-участниц, наглядно показали широту диапазона, в котором стали расходиться течения, определившиеся в архитектуре второй половины десятилетия. Впрочем различия между модернизированным классицизмом и выхолощенным функционализмом того времени были не столь уж принципиально глубокими.
Тридцатые годы были временём, неблагоприятным и для социальных поисков, и для широких градостроительных замыслов в архитектуре капиталистических стран. Сложность экономической и политической конъюнктуры вела к тому, что все реальные задачи замыкались в пределах единственной постройки или небольшой, локальной группы построек. Тем не менее CIAM пытался поставить проблемы города во всем их комплексе для теоретического анализа. Была проведена большая работа по накоплению исходных материалов, обработка которых велась по единому методу. В 1933 г. собрался очередной конгресс CIAM-IV на борту парохода «Патрис II», шедшего из Афин в Марсель. Здесь на основе детального анализа материалов, собранных в 30-х годах, была выработана основа документа, получившего название «Афинской хартии», в 111 пунктах которой были не без догматизма сформулированы градостроительные концепции функционализма. Они сгруппированы в пяти разделах: жилище, отдых, работа, транспорт и историческое Достояние городов. «Хартия» выдвигала принцип жесткого функционального зонирования городских территорий; ею устанавливался как единственный тип жилища целесообразный в условиях расселения высокой плотности «высокий, свободно расположенный в пространстве многоквартирный блок».
Документы CIAM-IV долго оставались неопубликованными. Только в 1943 г. была выпущена во Франции версия «Афинской хартии», подготовленная и прокомментированная Ле Корбюзье, и уже после второй мировой войны в США X. Л. Серт напечатал другой вариант под названием «Могут ли наши города выжить?» Некоторые из идей, изложенных в «Хартии», оказали влияние на развитие градостроительства послевоенных лет. Следует заметить, что это влияние было далеко не во всем положительным, поскольку оно прививало взгляд на город как на неизменяемую систему неизменных функций.
Вторая мировая война, развязанная гитлеровской Германией в 1939 г., оборвала развитие сложных процессов, начавшихся в архитектуре капиталистических стран. По своим масштабам, по количеству жертв и разрушений, которые она принесла, эта война превзошла все войны в истории человечества. Средства, затраченные на ее ведение, и материальный ущерб, нанесенный ею, достигли гигантской суммы — 4 триллиона долларов. В странах, участвовавших в войне, строительство в течение всех военных лет было связано или непосредственно с обеспечением военных операций (создание укреплений, опорных баз армии и флота, аэродромов, портов, транспортных коммуникаций), или с развитием промышленности, обслуживающей нужды войны. Жилищное строительство было сведено к ничтожному минимуму и было связано главным образом с нуждами вновь возникающих или перебазированных производств, имевших военное значение.
Бесчеловечность фашизма нашла в эти годы свое крайнее выражение в строительстве концентрационных лагерей, которые стали местом гибели миллионов людей. Эти «комбинаты» смерти создавались на своеобразной «научной» основе с использованием новейших достижений техники и предельной рационализацией их чудовищной технологии. Принцип «целесообразной» организации был здесь использован в античеловеческих целях. Рационализм стал орудием преступлений, равных которым не было в истории; с беспощадной ясностью обнажилась истина, что рационалистический метод сам по себе, вне содержания, которое в него вкладывается, вне цели, для которой он используется, не может служить признаком прогрессивности архитектуры. Урок этот разрушил остатки наивной веры, еще сохранявшейся среди технической интеллигенции, в- абсолютную ценность — эстетическую и этическую — тех рационалистических принципов, на которых основывалась архитектура функционализма.
В строительстве военных лет надо выделить некоторые явления, которые имели значение для разработки концепций архитектуры послевоенного времени. В первую очередь, это широкое применение разнообразных форм стандартизации и сборности при спешном создании новых промышленных предприятий и поселков при них. Принцип заводского домостроения получил своеобразную трактовку и в типах временных жилищ, которые создавались в Англии для размещения людей, чьи дома были разрушены бомбардировками. При всей специфичности таких построек они способствовали преодолению психологических и организационных барьеров, препятствовавших внедрению индустриальных методов в строительство.
В промышленной архитектуре США был создан новый тип производственного здания — громадный многопролетный блок с плоской кровлей, лишенный естественного освещения. Порожденный опасением воздушных налетов, этот тип постройки обнаружил ряд преимуществ перед заводами, расчлененными на корпуса (возможность гибкой организации производственных процессов, изменения их системы без каких-либо переделок в конструкциях сооружения), и получил в дальнейшем широкое развитие.
Архитектура немногих стран, оставшихся нейтральными, в военные годы переживала период застоя. Гражданское строительство и здесь сократилось до незначительных размеров. В обстановке всеобщей неуверенности не было условий для развития зодчества, возникали специфические трудности, связанные с нарушением мировых экономических связей. Отражением в архитектуре изоляционизма, стремления оградиться от событий, происходящих за пределами страны, становились националистические и традиционалистские тенденции (это можно было видеть, например, в Швеции или Швейцарии).
* * *
Разгром германского фашизма и японского милитаризма во второй мировой войне привел к глубоким изменениям, охватившим весь мир. Социальные сдвиги в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, происходившие в годы войны и господства фашизма, подготовили победу народно-демократических революций, означавшую коренной поворот в истории этих стран. На новый путь встали народы Албании, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии. Развитие революционных процессов в странах Азии открыло путь к социалистическим преобразованиям для народов Китая, Корейской Народно-Демократической Республики, Демократической Республики Вьетнам. В 1959 г. победила революция на Кубе. Сложилась мировая система социализма.
Война усугубила кризис колониальной системы империализма. Пробуждение национального самосознания под влиянием общедемократических идей антифашистской коалиции, определявшееся условиями и нуждами войны развитие известной экономической автономии колониальных стран; появление местных квалифицированных кадров были важными факторами, стимулировавшими борьбу за национальное освобождение. Мощный подъем этой борьбы привел к созданию суверенных государств на месте бывших колоний. К подлинной независимости — политической и экономической — стремятся так называемые слаборазвитые страны.
Эти общеисторические процессы, связанные с развитием второго этапа общего кризиса капитализма, коренным образом изменили географию явлений в архитектуре капиталистических стран. Новым путем пошла архитектура государств социалистического лагеря; стали возникать, подчас достигающие яркой самобытности, национальные архитектурные школы и направления в молодых развивающихся государствах.
Война обострила неравномерность развития капитализма в отдельных странах, внесла коренные перемены в соотношение сил основных империалистических держав.
Государства-агрессоры — Германия, Италия, Япония, потерпев сокрушительное поражение, — в первые послевоенные годы не играли самостоятельной роли в развитии международной ситуации. Подорванным оказалось политическое и экономическое положение Англии и Франции. С другой стороны. Соединенные Штаты Америки благодаря исключительному положению, в котором они находились, смогли за годы войны достичь небывалого перевеса над партнерами. Доля Западной Европы в мировом производстве, до 1939 г. намного превосходившая долю США, упала до двух третей и даже до половины американского уровня. США начали претендовать не только на роль лидера «западного мира», но и на особое положение в мире вообще, подкрепляя свои претензии активной экспансионистской политикой, распространявшейся и на область культуры. Экспансия эта развертывалась под лозунгами «интеграции Запада».
Мобилизация экономических ресурсов для нужд войны ускорила перерастание монополистического капитала в государственно-монополистический. Государство в интересах монополий начало проводить в развитых капиталистических странах различные мероприятия по регулированию экономики, что выражалось и в попытках внести плановое начало в градостроительство, и в расширении влияния государственных органов на строительную деятельность. Усиление регулирующих функций капиталистического государства в экономической сфере было результатом стремления перестроиться в условиях соревнования двух систем. Заимствование опыта планирования в Советском Союзе распространялось и на планировку городов, но в условиях «холодной войны» послевоенного периода это отнюдь не акцентировалось. Централизация капитала и возрастающее значение монополий в экономике капиталистических стран захватывали в свою сферу и строительство. Возникла тем самым возможность единовременного создания крупных городских комплексов, развития индустриальной базы строительства. Коренные противоречия капиталистического города при этом, разумеется, сохранялись, менялись лишь формы и масштабы их проявления.
На рубеже 40-х и 50-х годов начался новый этап научно-технической революции. Благодаря ей темпы роста производства в капиталистических странах несколько повысились по сравнению с периодом между двумя мировыми войнами. В ряде случаев специфические условия, складывавшиеся в отдельных странах, позволяли им на короткий срок достигать высоких темпов экономического развития (как это было, например, в ФРГ в 1950—1955 гг.). Однако ни научно-техническая революция, ни попытки регулирования не могли устранить противоречие между возможностями производства и его целью, ограниченной увеличением прибыли. Платежеспособный спрос создавал неизбежный предел — это ощущалось и в области жилищного строительства, объемы которого начинали свертываться, несмотря на огромные неудовлетворенные потребности, когда жилище переставало служить объектом прибыльных спекуляций.
Революция в технике коренным образом изменила материальные основы строительства. Начали применяться новые материалы — алюминий, пластмассы, резко изменялись свойства традиционных. Индустриализация, хоть и с большим запозданием, начала утверждаться в методах массового строительства промышленно развитых стран. Возникли новые типы конструкций, вырабатывалась методика их расчета. Строительная техника стала использовать результаты исследования биологических форм и процессов, на этой основе рождались принципиально новые решения проблем организации пространства и тектоники.
Научно-технический прогресс послевоенных лет привел к значительному расширению возможных форм организации пространства сооружений. Широкое распространение получили большепролетные структуры на основе армоцементных и железобетонных складок и оболочек, вантовых подвесных систем, пространственных конструкций из металлических стержней, возникли пневматические конструкции.
Техническая революция имела и свои социальные последствия, важные для развития архитектуры. В крупной промышленности поточно-конвейерное производство потребовало очень высокой и устойчивой производительности труда. Для восстановления рабочей силы стали необходимы лучшие материальные условия, чем были ранее. Общий подъем демократических сил в первые годы разгрома фашизма и упорная забастовочная борьба в последующем позволили трудящимся добиться выполнения некоторых своих требований, связанных с оплатой труда и массовым жилищным строительством. Вместе с тем повышение уровня жизни определенных категорий промышленного пролетариата, являющееся прежде всего необходимым для самого производства, использовалось буржуазной пропагандой для создания мифа об «обществе средних слоев», в которое, якобы, превращается капиталистическое общество под воздействием технической революции.
Наука превратилась в специфическую сферу производства; это породило и большой размах строительства сооружений, связанных с научными исследованиями, и расширение подготовки кадров высшей квалификации. Строительство крупных научных центров, таких, как Харуэлл (Великобритания), Карлсруэ (ФРГ), Сарсель (Франция), многих новых университетских комплексов, новых лабораторий и исследовательских институтов активизировалось в 1950-е годы. Во многих странах необходимость расширения общей подготовки промышленных кадров стимулировала и программы создания новых школьных построек.
Пожалуй, в большей степени, чем когда-либо в истории, архитектуру использовали как орудие в борьбе идеологий. Буржуазные политики прямолинейно декларировали роль архитектуры как средства «утверждения» и пропаганды идей; они ставили определенную задачу: пропагандировать через архитектуру образ жизни капиталистических стран, внедрять с ее помощью в сознание мифы «потребительского общества». Но влияние идеологических сдвигов на архитектуру определялось не одним только политическим прагматизмом, не только прямым подчинением зодчества определенным задачам в области идеологии. Архитектура чутко реагировала на формирование новых тенденций в идеях и мировоззрении, иногда в сложно-опосредованной форме, а иногда неожиданно конкретно откликаясь на них.
Несоответствие между возможностями, которые оказались в руках у людей, и тем, как эти возможности используются в капиталистическом обществе, все более обнажается, рождая протест, иногда активный, социально осознанный, иногда стихийно-бунтарский, анархический. Протест против несправедливости и неразумности общества, против самодовольства обеспеченных проникает и в архитектуру.
И официально-апологетические течения и течения, проникнутые духом протеста и смятения, стремятся к расширению арсенала художественных средств, к поискам форм, обладающих высокой эмоциональной действенностью. Язык архитектуры теряет стабильность, а вместе с ней постепенно утрачивает и ясность. Архитектура, активно утверждая себя как искусство, начинает еще ярче и еще более разносторонне раскрывать противоречия буржуазного общества, буржуазной культуры.
«Мы уже обладаем большим могуществом, чем то, которое можем использовать разумно, и имеем больше научных и технических знаний, чем можем усвоить и использовать на благо. Мы располагаем материальной мощью, превосходящей самые фантастические сны. Но берут верх ощущения бессилия, обмана и отчаяния. В самые темные времена у человечества не было такого всеобщего чувства тоски, такого ощущения пустоты и бесцельности жизни», — так писал американский социолог Л. Мумфорд в статье, как бы подводившей итоги первому послевоенному периоду развития архитектуры [L’architecture d’aujourd’hui, № 91—92, p. 139].
Разрушения, нанесенные второй мировой войной, требовали громадных восстановительных работ; необходимо было возместить и долгий перерыв в мирном строительстве. Постройки первых послевоенных лет трезво рационалистичны. Дефицит металла и цемента определил возврат к массивным кирпичным стенам, высоким стропильным кровлям.
Восстановление промышленного потенциала требовало и обеспечения рабочих жилищами. Поэтому была относительно велика доля муниципального строительства жилых домов, более или менее доступных трудящимся. В лучших из подобных построек есть ясность композиции, лаконичность, своеобразная сила выразительности. Их аскетическую обнаженность можно сравнивать с беспощадной правдой неореализма тех лет, высшим выражением которого были фильмы итальянских режиссеров Росселини и Де Сика. При этом почти не искалось новое, использование опыта предвоенного рационализма казалось совершенно естественным.
Жилищное строительство на Западе никогда не достигало объема, который был бы рассчитан на то, чтобы удовлетворить потребности всего населения. Но было трудно разместить и то количество жилищ, которое реально строилось в переуплотненных городах высокоразвитых промышленных урбанизированных стран с их нехваткой свободных земель, тем более что развитие было неравномерным и получало наиболее высокие темпы в крупнейших, уже переполненных городах. Комплексные градостроительные решения, позволяющие наиболее целесообразно использовать скудные резервы территории, стали совершенно необходимы. Вместе с тем наличие разрушенных бомбардировками обширных районов в ряде случаев открывало реальную возможность осуществления широких реконструктивных мероприятий.
Градостроительные идеи конца 40-х годов также восходили к концепциям функционализма. Сильное влияние оказала на них опубликованная в 1943 г. во Франции и в 1946 г. в США «Афинская хартия», отдельные извлечения из которой еще в годы войны вошли в брошюры, распространявшиеся английской службой информации. Жесткое членение города на зоны, связанные с категорично определенной четверкой основных функций (жить, работать, отдыхать, передвигаться), закладывалось в основу градостроительных проектов.
Главные трудности для осуществления замыслов переустройства городов создавала не ценность их сложившейся застройки, а частная собственность на городские земли. Архитектурно-планировочные проблемы перерастали в социальные, их решение наталкивалось на противоречия между интересами общества в целом и отдельных классовых групп.
Наиболее реальные результаты были достигнуты в области разработки жилых комплексов. Общепринятой структурной единицей селитебной территории стал микрорайон. Принципы его построения, связанные с организацией транспорта (территория, недоступная для сквозного проезда), были выведены из практики американского поселкового строительства («суперблоки» поселка Редберн, 1928 г.). Социальная идея — использование закономерной организации обслуживания населения для создания «соседства», коллектива, искусственно формируемого на определенной территории, — восходит к работам американских социологов 1920-х годов Р. Парка, Э. Берджеса и Р. Маккензи. Прообразом этой идеи служил пуританский жизненный уклад старых поселений, где каждый человек был связан традиционной схемой поведения и социальным контролем сельской общины. В расчленении больших городов на соседства буржуазным социологам виделась возможность возродить подобную систему контроля, а вместе с тем и увеличить влияние искусственно внедряемых стереотипов поведения и мышления. Решение профессиональных проблем организации крупных городских комплексов при этом в большой степени опиралось на изучение имевшего совершенно иное социальное содержание опыта советского градостроительства.
В капиталистических городах к середине нашего века сложилось довольно устойчивое распределение классовых групп на территории; в таких странах, как. Англия, социальная сегрегация стала очень жесткой. Вследствие этого социальные противоречия становились еще более очевидными. Территориальное разграничение усиливало конфронтацию классов общества. При создании новых комплексов была выдвинута поэтому идея «социальной интеграции» — формирования каждого микрорайона как своеобразной модели общества в целом. Развитием «смешанных соседств» и общения в их пределах надеялись снять остроту противопоставления классовых интересов. Таким путем надеялись достичь «политической и социальной стабильности». Социальная программа определяла пространственную организацию застройки, которая должна обеспечивать благоприятную среду для развития соседских связей. Композиция комплексов получала поэтому обращенный внутрь «интровертный» характер. Социальный замысел заставлял обратить особое внимание на систему обслуживания микрорайонов, составляющую как бы продолжение жилищ. Детально продуманный механизм социальных функций определял акцент на системе внутренних пространств комплекса — «островка», его отчужденность от общих связей города. Улицы теряли композиционную связь с застройкой, восприятие структуры города как целого становилось затрудненным.
Повсеместное использование получила при этом смешанная застройка, в которой сочетаются жилища для семей, несхожих по численности и уровню дохода, а потому разные по величине и планировке. В одной системе использовались при этом дома, в соответствии с особенностями разных типов жилищ имеющие разную этажность, силуэт и объемную характеристику. Их контрасты в единой композиции стали важным средством художественной выразительности.
Концепция микрорайона в 1950-е годы получила разнообразные варианты, отвечающие местным условиям. К числу наиболее крупных и интересных по пространственной организации жилых комплексов этого времени относятся микрорайоны английских, французских и шведских городов.
При комплексной застройке микрорайонов крупными строительными фирмами могло стать эффективным использование индустриальных методов строительства. Однако их развитие было неравномерным и медленным. С одной стороны, предприниматели стремились избежать крупных вложений капитала, не дающих немедленной прибыли; с другой — индивидуалистические тенденции заставляли многих архитекторов возражать против необходимой типизации и унификации.
Как альтернативу микрорайону со зданиями разных типов, Ле Корбюзье предложил крупные многофункциональные постройки, сочетающие в себе и жилье, и систему первичного обслуживания (детские учреждения, клуб, спортивные устройства, магазины, ресторан). Жилой комплекс при этом — внутренне сбалансированная сумма таких единиц, образующая здание, свободно стоящее среди открытого озелененного пространства.
В 1948—1952 гг. такое здание было построено в Марселе. Этот дом, вызвавший бурные дискуссии и множество подражаний, был воплощением идей, которые возникли у Ле Корбюзье, по-видимому, после общения с советскими архитекторами в начале 1930-х годов (в общей схеме и деталях здания очень много общего с некоторыми проектами «Конкурса на проект нового жилища», проведенного ОСА в 1928 г., и так называемыми «домами переходного типа» М. Гинзбурга). Массового распространения тип дома в Марселе не получил — выявились трудности полноценной организации обслуживания в пределах одного здания при обычной стоимости жилья, а также эксплуатационные трудности, связанные с совмещением разнородных функций. Почти неразрешимой задачей была и организация финансирования подобных многофункциональных построек.
Комплексное строительство микрорайонов было стимулом для организации сборного; домостроения. Оно внедрялось медленно и развилось в основном в тех странах, где высока стоимость рабочей силы, а строительная промышленность уже достигла необходимой степени концентрации.
Восстановление городов выдвинуло на первый план проблему городского центра, выпавшую из поля зрения теоретиков градостроительства межвоенного периода («Афинская, хартия» ее не затрагивает). Тяжелые разрушения, причиненные городским центрам, сделали наглядной их роль в системе жизненных функций города. Наиболее значительными и принципиальными по заложенным в них концепциям среди работ в этой области, осуществленных в 1950-х годах, были реконструкции центров Гавра и Ковентри.
При реконструкции Гавра, разрушенного в 1944 г. американской авиацией, были использованы принципы, идущие от османновской перепланировки Парижа, в сочетании с принципами тектонического рационализма О. Перре, руководившего проектированием. Приведенная к строгой регулярности сеть улиц доминирует в структуре реконструированной центральной части с ее небольшими, периметрально застроенными кварталами. Функциональную неполноценность традиционной планировки с присущим ей совмещением главных транспортных направлений и крупнейших комплексов общественных зданий выявило быстро возраставшее городское движение. Сочетание классицистических приемов пространственной композиции с жесткими ритмами, определяемыми унифицированной железобетонной конструкцией, породило монотонность облика города.
Комплекс центра Ковентри создавался в соответствии с принципами предвоенного функционализма на участке, полностью разрушенном массированными налетами германской авиации в 1941 г. Решение транспортной проблемы и упорядоченное распределение функций между четко ограниченными зонами ставились как главные задачи формирования плана. Центр был образован как пешеходный «остров», охваченный кольцевой магистралью. Комплекс, замкнутый этим кольцом, не мог, однако, ответить на изменения функций, происходящие особенно быстро именно в центре города. «Одномоментность» замысла, устанавливающего определенный порядок и не предусматривающего его изменений в будущем, обнаружила здесь свои слабые стороны. Таков был результат первого столкновения ортодоксального функционализма с градостроительными проблемами комплексного решения центра города средней величины.
Урбанизация, возобновившаяся в послевоенные годы, выдвинула как одну из наиболее острых проблему упорядочения роста крупных и сверхкрупных городов. Ситуация была особенно драматична в Великобритании, с ее скудными резервами территории и гипертрофированным развитием столицы. Проект децентрализации Лондона был первым принципиальным предложением в этой области.
Проект активно поддерживали пришедшие к власти лейбористы, пропагандируя его как пример внедрения планового начала в капиталистическую экономику. Плану была обеспечена поддержка государственного механизма страны. Реконструкция Лондона получила значение экзамена для градостроительства капитализма, выявляющего его реальные возможности в максимально благоприятных условиях.
Авторы проекта стремились сохранить сложившуюся структуру города и окружающего района. Идея создания на. этой основе четкой радиальной системы сближала план Лондона с планом реконструкции Москвы 1935 г., внимательно изучавшимся английскими планировщиками. Чтобы сделать проект выполнимым, его авторы, как заметил английский критик, во многом ограничились заменой «очень плохого несколько лучшим». Начало реконструкции было тем не менее временем больших ожиданий.
Однако и эти трезвые идеи оказались далеки от реальности: стихийный рост Лондона продолжался; значение сокращения численности жителей его центральных зон было сведено на нет увеличением числа административных зданий частных фирм, стремившихся получить место в «зонах престижа» английской столицы. Множащиеся офисы усугубляли перегрузку транспортной системы и стимулировали новый приток населения в Лондон. Неприкосновенность «зеленого пояса», который должен был создать стабильную границу города, осталась на бумаге. Важнейшим реальным результатом попыток осуществления плана Большого Лондона стали восемь городов- спутников, образовавших подобие ожерелья вокруг английской столицы. Плановое развитие города в целом оказалось неосуществимым.
Но эти города недостаточны по величине, чтобы обеспечить жителям возможность выбора места работы и развитие культурной жизни. Вместе с тем они были слишком близки к основному массиву метрополии для того, чтобы сохранить надолго пространственную изолированность. Самостоятельность их существования становилась поэтому все более иллюзорной. Запутанность функциональной системы Большого Лондона вследствие этого продолжала возрастать.
Идея децентрализации крупных городов получила в 1950-е годы широкую популярность и в странах Северной Европы, однако ее финско-шведский вариант, исходивший из неосуществленного проекта «Большого Хельсинки» (Элиел Сааринен, 1915—1918), принципиально отличался от английского. Здесь не предусматривалось создание закрепленного центрального массива, окруженного созвездием внутренне сбалансированных спутников, тоже ограниченных в своем развитии. Стокгольм и Хельсинки проектировались как развивающиеся организмы, рост которых осуществляется путем наращивания полуавтономных жилых районов на периферии города.
Рассредоточенный характер планировки внешних зон этих городов с районами, разделяемыми зелеными полосами, был привязан к сложной топографии их территории. Благодаря этому принципиальные отклонения от намеченных схем были почти исключены. Темпы развития и в этом случае не удавалось регулировать; однако пространственная структура северных городов получала форму, близкую к намеченной в проектах, и обладала достаточной гибкостью.
К новым городам Великобритании, созданным в ходе попыток децентрализации Лондона, проявлялось в 1950-е годы исключительное внимание. Пропаганде того, что было там сделано, придавалось большое идеологическое значение. Об этих городах писали как о «начале мирной и упорядоченной революции» (!), писали даже о создании в них «общества без классов», хотя рабочий, переезжая в новый город, оставался рабочим, а предприниматель — владельцем предприятия. При помощи крупных государственных субсидий эти города создавались как образцовые поселения, своеобразная витрина благоденствия.
Подобный характер придавался и некоторым полуавтономным районам на периферии северных столиц (Веллингбю в Стокгольме, Тапиола в Хельсинки, Ламбертсеттер в Осло). Корпорации, осуществлявшие строительство городов-спутников и образцовых районов, весьма тщательно занимались формированием социального состава их населения.
Не случайно в английских городах-спутниках размещались только те заводы и фабрики, которые были связаны с технически наиболее прогрессивными отраслями производства, где заняты квалифицированные и наиболее высоко оплачиваемые рабочие (электропромышленность, радиоэлектроника, приборостроение и т. п.). Сюда переводили и управления крупных фирм, чтобы их персонал обеспечил развитие «среднего класса». Переезду менее обеспеченных слоев населения в благоустроенную идиллию новых городов препятствовала высокая квартирная плата.
Важнейшим преимуществом жизни в городе- спутнике по сравнению с жизнью в большом городе должно было стать сочетание высокого уровня благоустройства и близости к природе. Однако «планировка прерий», при которой поселение растворялось в пейзаже, разбивала единство городской среды, создавала дополнительные препятствия для развития связей между людьми.
Оказалась нереальной идея создания города- спутника с населением в 50—80 тыс. человек как внутренне сбалансированного, законченного целого. Развитие промышленности такого города рождает новые потребности в рабочей силе, а следовательно, и в притоке населения. Ограниченные возможности приложения труда в малых городах заставляют все большее число их жителей искать работу в большом городе — это вызывает все возрастающую маятниковую миграцию. С большим трудом достигнутый баланс быстро нарушается, а самостоятельность городов-спутников в системе агломерации оказывается иллюзорной. Градостроительный эксперимент Великобритании был тщательно подготовлен и обеспечен условиями, уникальными для капиталистического градостроительства. Тем очевиднее выявилась слабость его основной концепции, опиравшейся на функционалистическую идею незыблемо устанавливаемого порядка.
Нелишне подчеркнуть, что все более или менее крупные градостроительные проекты, получившие осуществление, основывались на той или иной форме отчуждения земель. Характерно, что в ФРГ, где принцип неприкосновенности частной собственности на землю соблюдался с особой последовательностью, при довольно значительном объеме строительства, осуществленного в 50-е годы почти нет примеров полноценной комплексной организации территории города.
Архитектуре 50-х годов не был присущ индивидуализм, характерный для межвоенных десятилетий (особенно для 20-х годов, когда любое течение фактически складывалось как сумма весьма относительно связанных между собой индивидуальных концепций). Развитие безликого среднего уровня в известной мере определялось преобладающим значением в строительстве зданий массовых типов. Но играло роль и то, что в условиях экономических трудностей послевоенных лет господствующие классы не решались чересчур откровенно демонстрировать то, что было связано с удовлетворением их специфических потребностей.
Тем не менее иллюзорное единство направления, к которому на короткое время пришел рационализм, заняв господствующее положение в архитектуре начала 30-х годов, не возродилось более. Не возродилось вопреки тому, что для этого предпринимались большие усилия.
Установление единства направленности или хотя бы единого языка форм архитектуры нового, интернационального стиля отвечало лозунгам «интеграции», выдвигавшимся западными политиками. США, претендовавшие на объединение Запада под своей эгидой, предложили и свой эталон такого стиля — послевоенные постройки Л. Мис ван дер Роэ.
Нетрудно видеть, что вновь поднятые на щит лозунги «наднациональной» архитектуры получили в новой исторической обстановке новое содержание. На рубеже 20-х и 30-х годов они объективно противостояли наиболее реакционным идеологическим и политическим тенденциям; в 50-е годы они вошли в число средств пропаганды идеологии американского империализма.
Уже в ранних постройках «немецкого» периода творчества Мис ван дер Роэ проявлялось обостренное внимание к форме, абстрагированной от конкретного назначения постройки. Вначале это облекалось (в соответствии с тенденциями времени) в форму чисто деловую (например, гибкая планировка дома на выставке в Штутгарте, 1927 г.). Позднее универсальная форма стала основой творческой концепции Мис ван дер Роэ. Им была отвергнута формула «форму определяет функция», восходящая к афоризму Л. Салливена и ставшая основной заповедью функционализма. Метод функционализма был основан на претворении в архитектурную форму особенностей назначения постройки, он восходил к романтическим течениям в архитектуре конца прошлого столетия. Мис ван дер Роэ, напротив, отталкивался от универсальности приемов классицизма и утверждал возможность создания структуры, пригодной для того, чтобы вместить и дисциплинировать любую функцию.
Свою эстетическую концепцию Мис ван дер Роэ связывал с идеалистической философией неотомизма, согласно которой истоки прекрасного — в целостности, во внутренней уравновешенности формы, математической чистоте ее пропорций. В абстрактности элементарных геометрических фигур, ясности прямого угла и прямых линий Мис ван дер Роэ видел воплощение «абсолютной идеи», «высшей гармонии». «Лучезарность», «светлость» — один из главных эстетических идеалов томизма — он воплощал в непрерывности стеклянной оболочки своих построек.
Возникали здания-параллелепипеды с нерасчлененным внутренним пространством или этажами, образующими единый вертикальный блок. Детали сведены к минимуму («меньше — значит больше» — любимый афоризм Мис ван дер Роэ). Непременная симметрия, жесткая регулярность, единый четкий ритм стали свойствами универсальной архитектонической системы. Эта эстетика утверждала ничтожество человека и его «преходящих стремлений» перед непреклонностью и вечностью законов математической логики, перед мощью техники, создавшей холодно мерцающие глыбы из стекла и металла. Опираясь на современную технику, архитектор мечтал создать мир «абсолютных ценностей», чуждый суете «рыночной цивилизации», где все продается и покупается.
Отвлеченность эстетических взглядов Мис ван дер Роэ придает его произведениям «вненациональный» характер. Именно эту особенность стремились использовать государственные органы США. Мис ван дер Роэ был поднят на щит как лидер архитектуры Запада. Его «кристаллические» формы были приняты крупными проектными фирмами США (СОМ, «Гаррисон и Абрамович» и др.). По образцу Левер-хауза, высотного здания, построенного в 1952 г. фирмой СОМ, исключительно чуткой к конъюнктуре, здания, более броского для мимолетного взгляда и более доступного для повторений, чем постройки самого Мис ван дер Роэ, создавались десятки конторских зданий в различных странах Западной Европы. Особенно сильным влияние этой космополитической тенденции было в ФРГ, где много подобных сооружений возникло не только под американским влиянием, но и при непосредственной помощи США.
Однако насаждение «американизма», как стало расцениваться направление, идущее за Мис ван дер Роэ, во многих странах встретило активное сопротивление. «Архитектурной интеграции Запада» во многих странах Европы и Латинской Америки были противопоставлены зародившиеся еще перед войной и в годы войны тенденции к созданию вариантов рационалистической архитектуры, отвечающих своеобразию местных условий и национальным традициям. Эти тенденции поддерживались стремлением прогрессивной интеллигенции к изучению культуры своей страны во всем ее своеобразии. Острую неприязнь среди развивающихся народов рождало высокомерное отношение к самобытности их культур.
Процесс формирования национальных архитектурных школ в 1950-х годах развивался различными путями. В одних, при всей их противоречивости, преобладали тенденции, связанные с естественным стремлением наиболее полно ответить на всю сложность конкретной ситуации. Их приверженцы стремились сочетать достижения архитектуры, имеющие общечеловеческое значение, с национальным своеобразием и самобытностью.
На основе вновь разработанных методов решения конкретных жизненных задач и художественного осмысления не только неповторимой природной ситуации, но и особенностей материальной базы строительства развилась национальная архитектурная школа Финляндии. В ней складывались свои традиции, причем именно складывались вновь, а не продолжались исторически сложившиеся.
«Переложение» традиционных систем на язык современной конструкции было, напротив, исходным принципом для архитектуры Японии. Обращение к традиции, очень плодотворной и жизненной, помогло японским архитекторам преодолеть эклектизм и подражание западноевропейским и американским образцам. Японские архитекторы, идущие за К. Танге, Дж. Сакакура и К. Маекава, стремились, однако, использовать и национальные традиции, и опыт современного строительства в других странах лишь как отправные точки для самостоятельного творчества. В преодолении и отрицании консервативности традиции создавались образцы современной и вместе с тем самобытной, энергично развивающейся архитектуры.
В число наиболее самостоятельных и своеобразных национальных школ 1950-х годов вошла и архитектура Бразилии. Еще на рубеже 30-х и 40-х годов ее мастерами был создан широкий арсенал пластических форм, основанный на устройствах, регулирующих инсоляцию зданий. Эту особенность, характерную для тропиков, дополнили свобода формообразования, восходящая к традиции местной архитектуры барокко, и своеобразные, также идущие от исторической традиции приемы использования в архитектуре панно из цветной керамики. Среди хаоса городов с их контрастами роскоши и нищеты здесь возникли ярко своеобразные уникальные сооружения Л. Косты, О. Нимейера, А. Рейди и др.
Непродолжительной, но впечатляющей была деятельность национальной архитектурной школы Мексики. Ее возникновение было связано с творчеством живописцев-монументалистов, которые возрождали традиции искусства доколумбовых времен, вкладывая в них острое, социально-прогрессивное содержание. Своеобразные приемы синтеза архитектуры и живописи, во многом определявшие весь метод формообразования, стали главной характерной чертой мексиканской школы. Новое и традиционное органично сплетались как в архитектуре, так и в живописи.
Наряду с региональными направлениями, тяготевшими к самобытности современной культуры, существовали и такие, где поиски «своего пути» в архитектуре определялись шовинистическим национализмом, опирались на внеисторически воспринятые элементы традиции (так было, например, в Испании в начале 1950-х годов).
Развитие национальных школ и тенденции, которые за ними стояли, нельзя было игнорировать. Это заставило изменить формы использования архитектуры в целях культурной экспансии Запада. Работы западноевропейских и американских архитекторов, выполнявшиеся для развивающихся стран, перестали быть «архитектурным эсперанто». Они стали пряно-экзотичными, вместе с эстетизацией примитива в них появилось отражение специфических особенностей быта, связанных с пережитками прошлого (например, изоляция женщин в жилищах мусульманских стран). Подчеркивание элементов отсталости, сохранившихся в культуре народов вследствие колониального гнета, как бы закрепляло дистанцию между культурами. Игра на националистических тенденциях использовалась в тех же целях, что и пропаганда космополитизма.
Характерным проявлением этой тенденции было строительство более чем 50 зданий дипломатических служб США в различных странах мира (конец 1950-х годов). Приступая к осуществлению этой обширной программы, Государственный департамент США опубликовал декларацию, где подчеркивалось значение архитектуры для политической пропаганды и идеологии. Авторы декларации ставили перед архитекторами задачу «добиться гармонического сочетания местных архитектурных стилей с характерно американским» и, воодушевляясь местным колоритом и традициями, используя местные материалы, создавать представительные здания, которые должны рождать позитивное отношение к политике США. Дипломатия США совершала поворот на 180°. Видя, что борьба с тяготением к национальной культуре безуспешна, эта дипломатия стала пытаться использовать его в своих целях.
«Вненациональность» так называемого «архитектурного пуризма» Мис ван дер Роэ лишилась официальной поддержки. Постепенно притупился эффект новизны ошеломляющего контраста, который возникал между хаотичным, дробным окружением и гигантскими стеклянными призмами. Даже чисто формальное развитие линии Мис ван дер Роэ было невозможно: предел обобщения, абстрагирования формы был почти достигнут уже в здании Левер-хауза. Течение исчерпало свои возможности.
Следствием этого был переход от утонченного рассудочного эстетства Мис ван дер Роэ к вульгарному украшательству. Шаг от попыток создать новый «универсальный» язык к возрождению неоклассицизма был естественным. Первым его сделал Э. Стоун, построивший павильон США на Всемирной выставке в Брюсселе. Вслед за ним пошли ближайшие последователи Мис ван дер Роэ (такие, как Ф. Джонсон) и крупные проектные фирмы США. Симметричные объемы с несущим каркасом облачались в штампованные декоративные панели, орнаментальные металлические решетки или имитацию массивных монументальных форм. Регулярность, статичность и симметрия композиций были всецело подготовлены работами Мис ван дер Роэ, но жесткую математическую логику заменили изощренная декоративность и монументальная представительность в ее традиционном понимании. Именно в этом характере была выполнена основная часть работ по программе Госдепартамента.
Американский неоклассицизм вновь привел «современную архитектуру» к эклектизму, в борьбе с которым она возникла.
Постройки Мис ван дер Роэ и неоклассицистов представляют лишь одно из направлений в архитектуре 1950-х годов. Ему противостояла наряду с национальными и местными школами и органическая архитектура, получившая довольно широкий отклик в европейских странах (особенно в Италии) и укрепившая свои позиции в США. Это направление значительно трансформировалось, стремясь освоить новейшие достижения строительной техники и опереться на них. В работах его приверженцев выражение конкретных особенностей места и индивидуального характера назначения постройки стало вытесняться самовыражением индивидуальности архитектора. Внесоциальный характер гуманистических идей, вдохновлявших Ф. Л. Райта и его последователей, привел это направление к крайнему индивидуализму. Проблемы организации пространства выступают на первый план, получают самодовлеющее, отвлеченное содержание.
Характерны в этом отношении эксперименты «антистереометрического, антипризматического формирования пространства», осуществленные Ф. Л. Райтом в последние годы жизни. Пространство здания он рассматривает, как «активное ничто, созидательную силу, требующую развития новых форм» [Architectural Forum, 1958, IX, p. 123.]. Проблему гуманизации архитектуры он переносит в плоскость формальных исканий, противопоставляемых геометричности функционализма и неоклассицизма (непрерывность «перетекающего» пространства и ограничивающей его структуры, спиральные построения). В работах последователей «органической школы» появляются и отдельные элементы, заимствованные в архитектуре прошлого.
В европейской архитектуре середины и конца 50-х годов историзм перерос в самостоятельное направление. Он имел особенно большое развитие в Италии с ее городами, насыщенными драгоценнейшими памятниками зодчества. В поисках художественного созвучия с ними видели не только возможность связать новые здания с окружением, где доминируют старые постройки, но и средство гуманизации современной архитектуры. По словам итальянского архитектора Гарделлы, обращение к истории было порождено «не столько желанием найти иррациональную форму рациональному, сколько стремлением ввести в архитектуру образы, связанные с человеком в целом, с историческим и природным окружением, а не только физиологическими функциями» [«Современная архитектура», 1964, № 3—4, стр. 130.]. Оставив надежды на возможность реформировать общество, архитекторы пришли к новой иллюзии — надежде на возможность его духовного обогащения средствами архитектуры, утверждающей свою причастность к культурным ценностям прошлого. Обращение к истории как средству преодолеть обесчеловеченность действительности было одним из проявлений кризиса идей современного капиталистического мира.
Отрицательное отношение молодого поколения к официальной архитектуре получило осознанную форму в направлении, которое в 1954 г. получило название «брутализм». Оно возникло в Англии, и его инициаторами считаются супруги Алисон и Питер Смитсон. Крушение надежд, связанных с перспективами строительства в послевоенные годы, отвращение к самодовольству лидеров официальной архитектуры, к внешнему блеску построек модных направлений легли в основу течения. Агрессивное отрицание сущего в сочетании с весьма расплывчатыми позитивными идеями сближало «бруталистов» с их современниками, так называемыми «рассерженными молодыми людьми» в литературе.
Своим идеалом приверженцы брутализма называли бескомпромиссность Мис ван дер Роэ и Ле Корбюзье. Уже самая ориентация на двух столь несхожих мастеров говорит о широте, если не сказать расплывчатости идейной концепции течения. Первые бруталистские постройки своей пуританской строгостью свидетельствовали и о непосредственном влиянии Мис ван дер Роэ. Выразительность этих сооружений основывалась на обнажении конструкции и инженерного оборудования: даже трубопроводы и электрические кабели не были скрыты и участвовали в организации пространства как полноправные элементы архитектурной формы.
К концу 50-х годов бруталисты отошли от скованности симметричных схем и почти мистического преклонения перед геометрией прямых углов. Их главным принципом стала бескомпромиссная честность выражения пространственной структуры процессов, входящих в назначение здания. А. и П. Смитсон выдвинули понятие «действия в определенных обстоятельствах» взамен представления о функции как раз и навсегда предопределенном, единообразно осуществляемом процессе. Творческий метод их стал основываться на сотрудничестве не только с инженерами-конструкторами, но и с технологами и социологами, детально разрабатывающими возможные системы организации процессов. Протест против конформизма, разрастающегося в буржуазной культуре, стал лейтмотивом их эстетической концепции.
Брутализм не получил ни ясно сформулированной теории, ни каких-либо организационных форм. Постепенно этим термином архитектурная критика стала характеризовать ряд направлений, возникавших самостоятельно в различных странах. Цели их имели лишь относительную близость. Общность их определялась в первую очередь отрицанием любых форм декорации и маскировки, а также остротой выражения специфического назначения постройки. Брутализм в той или иной мере затронул архитектуру почти всех европейских капиталистических стран, получил своеобразное отражение в архитектуре Японии; близки к нему и некоторые работы архитекторов США (Л. Кан, П. Рудольф).
Брутализм был попыткой вернуть современную архитектуру к суровому рационализму. Отсутствие твердой социальной основы лишало это направление целеустремленной ясности. Отсюда — нечеткость идейной концепции, неуверенность, прикрываемая нарочитой грубостью форм, заострением контрастов.
При всем различии таких направлений, как «архитектурный пуризм» Мис ван дер Роэ, неоклассицизм, брутализм, все они в той или иной мере основывались на рационалистическом подходе к архитектуре. В середине 1950-х годов возникают тенденции, принципиально отвергающие роль рационального начала, явно противоречащего алогичности и иррациональности всего капиталистического порядка. Иррационализм не был единым явлением — его порождало и неприятие действительности, протест против буржуазной самоуспокоенности и наряду с этим мистицизм, утверждение бессилия человека и его разума.
Характерно, что толчок к возникновению таких тенденций дал Ле Корбюзье. Его эволюция от «божественной геометрии» 20-х годов до капеллы в Роншане (1954 г.) определялась не только развитием художественных средств самой архитектуры — постепенным вовлечением в их число все более сложных форм, сопоставления фактур, цвета. Менялось и мировоззрение архитектора. «Картезианский рационализм» конца 20-х годов с его прямолинейной логикой казался наивным после исторических потрясений, выпавших на долю человечества за последние десятилетия. Место рационализма заняла пессимистическая философия экзистенциализма с присущим ей противопоставлением свободы и разума. Личность по ее концепциям утверждает себя через отрицание и преодоление логической необходимости. Техника воспринимается как самостоятельная сила, парализующая духовную жизнь.
Подобный подтекст определил форму капеллы в Роншане: организация материала подчинена здесь, как в скульптуре, пластической форме, в которую воплощен образ-символ. Форма абстрагирована от конструкции и свойств материала; она как бы воплощает интуитивность творческого процесса, «творческую волю», освобожденную от диктата разума.
Эволюция взглядов Ле Корбюзье была выражением одной из тенденций развития буржуазного мировоззрения. К иррационализму пришли и некоторые другие архитекторы. Так, вехами творческого пути итальянца Дж. Микелуччи были суховато-логичное здание вокзала во Флоренции (1935 г.) и отмеченное пессимистически-сумбурной алогичностью форм здание церкви на Дороге Солнца (1964 г.). Таков путь мастера, который утратил веру в плодотворность разума при столкновении с действительностью.
Иррационализм неизбежно приходит в столкновение с объективными свойствами материально-технической основы архитектуры. Преодоление (хотя бы только видимое, кажущееся) закономерностей, которым она должна подчиняться, рождает значительные сложности для осуществления сооружений. Последовательно-иррационалистические произведения в архитектуре поэтому немногочисленны и связаны главным образом с культовым строительством. Но иррационализм открыл дорогу «новому барокко». Его наиболее яркие проявления можно видеть в творчестве итальянских, испанских и латиноамериканских архитекторов. Здесь доминирует стремление к нарочито обостренным контрастным сопоставлениям объемов, к предвзятому отказу от прямоугольности, заменяемой драматическим напряжением острых углов и косых срезов, к сложности криволинейных форм. Господствует асимметрия, но чаще всего ее возникновение диктуется не логикой пространственной организации функции, а отвлеченным стремлением к динамичности композиций (в иных случаях и вопреки логике). Остраненность формы выходит на первый план. Сооружение создается как абстрактная скульптура, а функция приспосабливается к форме, подчиняющейся только собственным законам.
В театральной аффектации построек итальянца Луиджи Моретти, ориентирующегося на заказчика из буржуазной элиты, ощутим рассудочный расчет, стремление к рекламе. В иных случаях «необарокко» используется как форма вызова усредненным, конформированным вкусам обывателя. Сложнее фигура крупнейшего бразильского архитектора О. Нимейера. Этот мастер ясно видит глубину социальной несправедливости, необходимость переустройства общества и вместе с тем невозможность решить общественные противоречия в рамках самой архитектуры. Это обесценивает для него самую сущность рационалистического метода. В формотворчестве, самодовлеющем профессиональном эксперименте он ищет выход для творческих сил.
В картине развития архитектуры 1950-х годов видное место занимали интерпретаторы идей, пользовавшиеся славой и успехом, которые многократно изменяли свою творческую направленность. Причиной такой изменчивости отнюдь не всегда было рассудочное желание использовать конъюнктуру, выбирая тенденцию, дававшую максимальные шансы на успех. Во многих случаях изменчивость была следствием нестабильности личности, преобладания внешних влияний над внутренним развитием. Одна из типичных фигур такого рода — работавший в США Ээро Сааринен. В начале своего короткого творческого пути он следовал за Мис ван дер Роэ, но среди его построек и скульптурно-пластический аэровокзал им. Кеннеди в Нью-Йорке, и неоклассицистические здания посольств, и типичные для «историзма» 1950-х годов новые корпуса йельского университета.
Важным явлением этого периода было развитие строительной техники, происходившее как бы «самопроизвольно», по инициативе инженеров, — ситуация, в чем-то напоминающая сложившуюся в конце прошлого столетия. В экспериментальном строительстве накапливался арсенал новых форм, еще не получивших полноценного художественно-пластического осмысления. Развивались многочисленные варианты большепролетных пространственных покрытий — сводов-оболочек, складок, подвесных систем, стержневых конструкций, что заметно повлияло на характер формообразования в архитектуре последующего десятилетия.
В конце 50-х годов было начато осуществление двух наиболее крупных экспериментов в градостроительстве капиталистических стран. Они были связаны со строительством новой столицы Бразилии — города Бразилиа — и столицы индийского штата Пенджаб — города Чандигарха. Эти города получили четкую структуру плана с ясно выявленными линейными ориентирами, которые создает дифференцированная уличная сеть. Несмотря на то что их проектирование осуществлялось под руководством крупных мастеров— О. Нимейера, Л. Коста, Ле Корбюзье, выразительность облика городов в целом не была достигнута. Системы объемов и пространств не складывались в органическое единство. Воздействие новых комплексов застройки на психику людей оказалось удручающим. Создание полноценной городской среды целостных организмов большого масштаба оказалось вне возможностей современной архитектуры Запада.
Задачи архитектуры в 1950-е годы сильно усложнились по сравнению с межвоенным периодом. Они требовали активного обмена информацией и широкого обсуждения принципиальных проблем. В этих условиях узкогрупповая форма международной организации архитекторов, какой был CIAM, себя изжила. Кризис CIAM наступил в 1956 г., во время 10-го конгресса в Дубровнике. Группа, готовившая его материалы («Бригада 10»), куда входили Я. Бакема, А. ван Эйк, Ж- Кандилис, А. и П. Смитсон и др., выступила против диктата членов-учредителей. Это столкновение фактически положило конец существованию организации.
Реальным задачам послевоенных лет в гораздо большей степени отвечала деятельность учрежденного в 1948 г. Международного союза архитекторов (MCA—UIA), объединившего на демократической основе творческие организации многих стран мира и ставшего открытой, массовой организацией. MCA способствовал развитию официальных и дружеских контактов между архитекторами различных стран; важное значение имело участие в его работе зодчих социалистических государств. Конгрессы MCA, собиравшие участников, представлявших почти все страны мира, открыли возможность всестороннего и широкого обсуждения важнейших принципиальных проблем. Такая форма работы гораздо больше отвечала характеру деятельности архитекторов, определившемуся в 1950-е годы, чем методы, которые использовались CIAM.
* * *
Перелом, наступивший в архитектуре капиталистических стран к концу 50-х годов, трудно связать с точной датой. Однако постепенные изменения привели к совершенно очевидным качественным различиям между архитектурой 1960-х годов и предшествующего десятилетия. Эти изменения не были результатом развития архитектуры по своим, внутренним законам. Они были обусловлены явлениями общеисторическими, отразили усилившуюся неравномерность развития капитализма.
В 50-х и начале 60-х годов монополистическая концентрация капитала в условиях научно-технической революции еще способствовала известной интенсификации производства. Однако именно эта интенсификация привела к усугублению основных противоречий капитализма, усиливающих неустойчивость его экономики и порождающих социальные бури.
Концентрация политического и экономического могущества в руках монополий не изменила общественных законов, не открыла возможности эффективно управлять производительными силами, умножаемыми научно-техническим прогрессом, обеспечить плановый характер развития экономики и ее стабильность. Обострились социальные противоречия. Напряжения стали возникать в новых направлениях. Так, конец 1960-х годов был временем бурных выступлений студенческой молодежи почти во всех развитых капиталистических странах (особенного размаха они достигли во Франции и США). Протест молодежи против существующего порядка, носивший подчас характер стихийных бунтов, оставил глубокий след в общественном сознании. Усилились и противоречия между ведущими странами капиталистического лагеря — экономические и политические. Все эти явления рождали чувства неуверенности и сомнения, сильно повлиявшие на все стороны развития культуры в 60-е годы. Они оказали и непосредственное воздействие на развитие зодчества, и опосредованное — через сдвиги в социальной психологии, которые были ими порождены.
В 1960-е годы во всех странах происходил интенсивный рост крупных городов, убыстренный как «демографическим взрывом», так и продолжающимися процессами урбанизации, но активность практических градостроительных начинаний уменьшилась, сократились и их масштабы — от попыток радикально повлиять на структуру расселения и крупных агломераций до первоочередных, неотложных мероприятий по реконструкции городов, связанных с совершенствованием транспортных коммуникаций и перестройкой городских центров. Вместе с тем в решении конкретных задач в большей степени, чем ранее, использовалось развитие городских структур во всех трех измерениях пространства. Оно осуществлялось не только путем умножения числа надземных уровней коммуникаций, но и за счет активного использования подземных ярусов (площадь Дефанс в Париже, район вокзала Синдзюку в Токио и т. п.). В ряде случаев принимались меры, чтобы обеспечить разделение движения пешеходов и транспорта на более или менее значительных территориях.
Воздействие хаотически разрастающихся городов и промышленности на окружающую природную среду стало приобретать в этом десятилетии угрожающие размеры. Загрязнение атмосферы, водоемов и почвы вокруг городов пагубно отражалось на здоровье людей. Необходимость решительных мероприятий для оздоровления среды была ясна, однако в условиях капиталистической экономики они оставались неосуществленными или имели половинчатый характер.
Для развивающихся стран стало особенно катастрофичным разрастание трущоб, сопровождающее стремительную урбанизацию. Большая часть нового населения, мигрировавшего в города из сельских местностей, оседала в беспорядочных поселках с жалкими лачугами из случайных материалов, построенных руками самих жителей, в так называемых «сквоттерах», «фавеллах», «бидонвилях». Это явление стало характерно и для городов, где общий объем строительства был значителен и уделялось большое внимание развитию «престижных» ансамблей правительственных и деловых центров; уже в 1962 г. в трущобах жило более 40% жителей новой, только что отстроенной столицы Бразилии; к 1966 г. число обитателей трущоб мексиканской столицы Мехико достигло 1,5 млн. — половины общей численности ее населения; на 275 тыс. человек возросло население трущоб Каракаса только за 3 года — с 1961 по 1964 г. [Improvement of slums and uncontrolled settlments. United Nations. New-York, 1971, p. 21—23.]
В конце 1950-х — начале 1960-х годов делались попытки радикально пересмотреть сложившиеся градостроительные концепции. Особенно активны они были в Великобритании, игравшей ведущую роль в западном градостроительстве начала десятилетия. Социальные замыслы, связанные со структурным членением городской территории на микрорайоны, обнаружили свою беспочвенность. Совместное расселение людей с разным уровнем дохода осуществить не оказалось возможным; микрорайон не поколебал сложившуюся в городах социальную сегрегацию. Идея «соседств» оказалась бесплодной социальной утопией. Низкая плотность и распыленность застройки порождали новые проблемы организации городской жизни, а замкнутость микрорайонов лишь осложняла проблемы формирования системы обслуживания.
Строительство нового города Камбернолда, начатое в 1957 г., было демонстрацией новых идей английского градостроительства. Город на склонах холма строился как плотное целостное образование без членения на микрорайоны. Разделение по вертикали изолировало пешеходные дороги от проездов транспорта. Композиция города воплотила в себе своеобразную заявку на концепцию мегаструктуры — города-здания, гигантского многофункционального сооружения, где система функций не развернута на плоскости, а организуется в трех измерениях пространства. Концепция эта получила развитие как в связи со строительством «второго поколения» новых городов Великобритании, так и в теоретических исследованиях.
Для новых концепций западноевропейского градостроительства важную роль сыграл доклад комиссии Министерства транспорта Великобритании, возглавлявшейся К. Бьюкененом, — «Движение в городах» (1963). В этом документе подчеркивалось единство городской среды, где транспортная сеть неотделима от комплекса застройки. Как основная единица членения территории города, выдвигалась единица более крупная, чем микрорайон, — городской район. Транспорт должен иметь доступ в его пределы при условии, что возможности транзитного проезда исключены и обеспечены безопасные пешеходные связи. Эта концепция уже не связывалась с какими-либо замыслами новой социальной модели города, была узкофункциональной по содержанию.
Идея трехмерного градостроительства, оперирующего целостными пространственными структурами, к концу 1960-х годов все чаще выдвигалась как альтернатива двухмерной планировке, определяющей лишь расположение объемов зданий на плоскости. Такие идеи в Западной Европе и Северной Америке разрабатывались теоретически и воплощались в строительстве отдельных экспериментальных комплексов сравнительно небольшого масштаба (Франция, Великобритания, ФРГ, Канада, США, Япония и другие страны).
В 60-е годы в ряде государств проводились большие работы по районной планировке (Франция, Скандинавские страны, Финляндия и др.), разрабатывались генеральные планы городов, разрастался сложный бюрократический механизм планировочных органов. Однако, несмотря на вмешательство государства в развитие систем расселения, предпринятые действия были недостаточны для упорядочения роста городов и их агломераций. Разработанные и принятые проекты, как правило, имеют лишь чисто рекомендательное значение и не могут влиять на развитие экономических и социальных процессов, формирующих расселение. Кризис городов принял особенно угрожающие формы в США.
Большая по объему проектная деятельность, связанная с планировкой городов и регионов, проводившаяся в 1960-е годы, имела главным результатом углубление теоретической проработки вопросов градостроительства, раскрытие сложных закономерностей, связывающих города и регионы в единую систему. В теоретических изысканиях город стал выступать как целостная среда — практическая же деятельность архитекторов, напротив, во все большей степени сосредоточивалась на создании уникальных сооружений. Прогресс в градостроительном мышлении архитекторов отнюдь не сопровождался реальными успехами градостроительства. Число построек, создаваемых предпринимателями вообще без участия архитекторов, угрожающе возрастало во многих странах (во Франции к концу 1960-х годов так строилось до 80% жилищ).
Формирование гармоничной среды, окружающей человека, все чаще выдвигалось как основная задача архитектора. Однако целеустремленное решение проблем создания здоровой и организованной среды неизбежно упиралось в социально-экономические противоречия. Подлинная деятельность, направленная к совершенствованию и гармонизации окружения человека, подменялась демагогией.
Разочарование в социальной роли архитектуры заставило многих архитекторов обратиться к формальным поискам. Активность архитекторов развитых капиталистических стран в области социальных проблем стала ниже, чем даже в 1950-х годах. Подчеркивалась значимость эстетических свойств архитектуры — это было связано, во-первых, с тем, что в условиях, когда сооружения превращены в товар, когда отношения вещей подменяют отношения людей, форма вещей приобретает самодовлеющую ценность, а во-вторых, с использованием средств архитектуры в борьбе идеологий и в числе средств формирования так называемой «массовой культуры», с помощью которой буржуазия стремится манипулировать сознанием масс.
Среди ищущих, наиболее творчески активных архитекторов стала популярной активная оппозиция этой потребительской псевдокультуре и морали «индустриального общества», морали технократии, бесстрастно «нажимающей на кнопки». Но конформизованному техницизму и уровню массовой повседневности противопоставлялся прежде всего индивидуализм элитарной культуры. Такое противопоставление стремились представить как универсальное, оттесняющее на задний план как реальные жизненные противоречия социальной структуры буржуазного общества, так и реальность борьбы идеологий.
На этой основе стал формироваться новый миф — вновь архитектору предлагалось «решить уравнение нашей раздираемой противоречиями эпохи». Но суть этих противоречий изображалась как «раскол между гуманистической культурой и социально-политической стороной научно-технического прогресса». Новый миф подкупал мнимой реалистичностью, нацеленностью на конкретные проблемы культуры — как будто противоречия в системе культуры могут быть решены какими-либо частными акциями, а сама культура может быть изолирована от противоречий социального строя в целом.
Поиски нового в архитектуре под влиянием этого мифа сводятся к экспериментам в области языка архитектурной формы. Лишенные социальной целенаправленности искания новых приемов организации пространства и пластики дают начало сложной формалистической риторике. Создается новый словарь форм, рождаются необычные, звонкие «слова» — необычные пластические элементы, необычные пространственные структуры. Высказывается надежда, что форма, способная нести символические значения, позволит создать гуманистическую альтернативу бездушной потребительской цивилизации. Но каковы должны быть эти значения? Какое содержание должны нести новые формы? Ответа на эти вопросы нет.
Функционализм в его ортодоксальном истолковании, восходящем к 1930-м годам, еще занимал определенное место в архитектуре 1950-х годов, но в 1960-е годы его догмы отвергаются как наивно-механистические. Становится популярным новое толкование рационализма в архитектуре, основывающееся на методике структуралистского анализа. Влияние французского структурализма ощущается не только в области теории архитектуры, где ряд ученых обратился к анализу явлений зодчества методами, заимствованными у структурной лингвистики (Ф. Шоэ во Франции, К. Нурберг-Шульц в Норвегии и др.), но и в творческих концепциях зодчих (как в самой Франции, так и в Скандинавских странах, Финляндии, ФРГ, Канаде и других странах). Структурализм исходит от предположения о существовании неких структурных законов, присущих подсознательной сфере человеческого интеллекта, которым подчинены различные виды «деятельности человеческого духа». На первый план выдвигается изучение систем в их всеобщих закономерностях вне процессов создания этих систем, вне той реальности, в которой эти системы существуют, вне идеологии.
Практическое воплощение структуралистских идей в архитектуре связывается с растворением самого понятия «здание» в более обширном, системном понятии «городской комплекс». Городской комплекс с его инфраструктурой рассматривается как нечто целостное, как единая пространственная система, охватывающая и различные искусственные уровни, «умножающие» территорию, и коммуникации всех видов, и сооружения. Проблема формирования комплексов прямо связывается с проблемами индустриализации строительства (П. Майар, П. Боссар во Франции, Б. Лундстен в Финляндии и др.).
Эффекты «нового барокко» в 1960-е годы уже не увлекали, но влияние иррационалистического мировоззрения расширялось, выливаясь в самые разнообразные формы. Мода на стекло прошла — архитектуре были возвращены материальность, весомость, а вместе с ними фактура и цвет. Но возникла иная крайность — имитировались несуществующие гигантские массы материала, утрировалась тяжесть, монолитность объемов. Увлечение кривыми линиями и поверхностями продолжалось, но наряду с ним стали распространяться сложнейшие пространственные комбинации прямоугольных ячеек, жесткая угловатость которых активно подчеркивалась в композиции.
В постройках большого бизнеса вновь утвердился монументализм, далекий от суховатой деловитости рядовых офисов, где все подчинено рационализации конторского труда и стремлению создать для него предельно целесообразные структуры. Сооружения «биг-бизнес-стиля» конца 1960-х годов претендуют и на роль символов могущества крупных монополий. Но впечатляющей репрезентативности стремились достичь, уже не прибегая к декоративной бутафории. Подчеркнутая контрастами величин громадность объемов и тех пространств, которые связаны с функцией представительства, выступает на первый план. «Гигантизм» стал категорией если не эстетического, то психологического воздействия. Кажущаяся легкость навесных стен «в стиле Мис ван дер Роэ» не возрождалась более. Использовались приемы разработки фасадов, связанные с общей тенденцией к монументальности. Грубоватая массивность конструкции часто оказывалась нарочито выявленной.
Для этой тенденции характерны 100-этажный небоскреб «центра Джона Хенкока» в Чикаго, два высотных здания Международного торгового центра в Нью-Йорке (по 110 этажей каждое, высотой 411 м), небоскреб компании «Сирс энд Робак» в Чикаго, достигший «рекордной» отметки — 442 м. Погоня за рекордом была здесь частью «престижной функции» построек. Претенциозные небоскребы в десятки этажей стали строить в Токио крупнейшие концерны Японии вопреки всем трудностям, которые создает для высотного строительства в этой стране опасность землетрясений.
Тенденция к монументальности, достигаемой более сложными средствами воздействия на эмоции, чем гипертрофия размеров, получила воплощение в произведениях Л. Кана. Этот американский архитектор стремился раскрыть наиболее общие закономерности структурного построения объектов, сводя конкретные функции сооружений к неким архетипам, «извечно существующим институтам человеческого общества». Четкое выявление элементов логично расчлененного пространства в объеме здания становилось основой исключительной пластической напряженности композиций; организация света использовалась как важнейшее средство формирования интерьера. В поисках первооснов Кан обращается к классической традиции, но далек от попыток имитировать формы прошлого. Отрекаясь от конъюнктурного и случайного, Кан, однако, порывает и с конкретностью социальной действительности. Обращение к «извечным началам» стало у Кана своеобразной формой эскапизма, самоизоляции в кругу чисто профессиональных проблем.
Монументальность построек Кана — естественное проявление индивидуальности мастера в решении творческих проблем. Для более молодых лидеров неомонументализма в американском варианте — П. Рудольфа и К. Роша — монументализация образа определяется самой постановкой задачи, ориентацией прежде всего на рекламно-престижную функцию сооружения. Несмотря на неизменную виртуозность разработки пластических свойств любой их композиции, обилие сложных массивных форм (зачастую бутафорских) и насыщённость контрастами кажутся чрезмерными и подавляющими.
Своеобразным проявлением «новой монументальности» стали здания, части которых объединены вокруг громадного цельного пространства. Между интерьерами помещений и внешней средой создается промежуточное звено, имеющее чисто символическое значение, служащее все той же функции утверждения престижа институтов буржуазного общества. Не массивные формы, а необъятность пустоты рождает подавляющее ощущение (характерны здания. фонда Форда в Нью-Йорке, отелей в Портлэнде и чикагском аэропорту О’Хара, конторы Лондонского банка в Буэнос-Айресе).
Менее остро эту же тенденцию выражает творчество второго поколения бруталистов. Для этого поколения «рассерженные молодые люди» английской архитектуры 1950-х годов — А. и П. Смитсон — уже профессора, «мэтры», отчужденные от молодежи официальным признанием и успехом. Однако новому поколению бруталистов как в самой Великобритании, так и в других странах Европы незнакомы нервозная взвинченность, неудовлетворенность и постоянные поиски, характеризовавшие начало брутализма. Ушли от них и зачинатели направления. Колючая угловатость, нарочитые крайности сменились к середине 60-х годов уверенным мастерством эпигонов. Возникают постройки в меру необычные, умело связанные с окружением, солидно-монументальные, но не подавляющие (группа зданий редакции журнала «Экономист» и Центр искусств в Лондоне, комплекс университета восточной Англии, здание делового центра в Хельсинки и т. п.).
На фоне новой волны формальных поисков, формотворчества, для которого несущественна специфика местных культурных традиций, равно как и природно-климатические особенности, стали менее заметны признаки многих региональных школ в архитектуре 60-х годов. Однако яркая самобытность творчества японских архитекторов, не поглощенных машиной коммерческого проектирования, К. Танге, К. Маекава, С. Отани, А. Исодзаки, К. Кикутаке, Н. Курокава, как и в предшествующем десятилетии, привлекала всеобщее внимание. Их творчество развивалось не столько в продолжении традиции, сколько в борьбе с ее инерцией, в полемике с ней. Однако своеобразная «антитрадиция» противостоит здесь не классике, а той спекуляции ее внешними признаками, к которой прибегает туристический бизнес. Мистическому символизму противопоставляется суровость реалистических попыток ответить на действительно сложные проблемы современной жизни, нарочитой деликатности — агрессивная немасштабность, преувеличенная напряженность форм. Реакцией на утонченно-эстетские стилизации становится нарочито шокирующий антиэстетизм. Японские архитекторы сознают неразрывность здания и окружающей среды, для них это — первооснова концепции. Их трагедия в том, что сколько-нибудь значительные градостроительные замыслы остаются нереализованными, а отдельные сооружения тонут в урбанистическом хаосе, натиск которого в Японии принял особенно угрожающие формы.
В 60-е годы примечательным явлением стало и творчество молодых испанских архитекторов. После долгих лет господства псевдонационального направления и риторики стиля, насаждавшегося франкистской диктатурой, для которой Эскуриал был «воплощением Реализма, Эпичности, Власти, Традиции и Порядка», сложилось новое, своеобразное направление, ставшее частью культурной оппозиции дряхлевшей диктатуре, оппозиции, проявившей себя в социальном реализме литературы, изобразительного искусства и кино уже в 50-е годы.
Новое движение в испанской архитектуре не имело сколько-нибудь широкой социальной опоры и осталось достоянием сравнительно малочисленной культурной элиты. Агрессивность протеста обрушивалась прежде всего на реакционные культурно-эстетические догмы, а лишенные социальной целенаправленности поиски нового претворялись в сложную риторику архитектурной формы. Не случайно рождались аналогии с экспрессионистской архитектурой начала 20-х годов, возникали архитектурные образы, напоминавшие о «Замке» Кафки (дом «Ксанаду» в Аликанте, построенный Р. Бофиллом). И все же в панораме архитектуры 60-х годов творчество Р. Бофилла, Ф. Альбы, А. Кодерча, X. Саэнса де Ойсы, X. Фульяондо заняло заметное место, позволяя говорить о появлении новой архитектурной школы, яркой, хоть и находящейся пока в стадии мучительного становления.
В число интереснейших явлений архитектуры десятилетия вошла и архитектурная школа Индии, мощным толчком к развитию которой стало строительство Чандигарха. В трудных условиях страны, где успехи прогрессивного развития сталкиваются с укоренившимися феодальными и кастовыми пережитками, поражающе остры социальные контрасты, неразвита материально-техническая база строительства, начинают консолидироваться национальные кадры архитекторов, создающих произведения, отмеченные и яркой индивидуальностью, и глубокой связью с традициями древней культуры.
Общую тенденцию развития зрелищности, повышения эмоциональной действенности архитектуры 60-х годов можно проследить «в чистом виде» на примере Всемирных выставок. От ЭКСПО-58 в Брюсселе к ЭКСПО-70 в Осаке проходит единая линия подчинения архитектуры зрелищу, часто основанному на иррациональных образах, в которое во все большей степени превращалась экспозиция; архитектура растворялась в этом зрелище, становилась одним из его видов. Приемы, определившиеся в архитектуре выставок, иногда получали непосредственное использование в «повседневном» строительстве, иногда служили материалом для профессионального мышления, направляя его к новым средствам развития архитектурного языка.
На рубеже 60-х годов в профессиональной литературе резко возросло число теоретических исследований, делались попытки подвергнуть переоценке значение отдельных этапов архитектуры XX в. При этом на первый план оказались выдвинуты стиль модерн, экспрессионизм, эксперименты группы «Де Стиль». Напротив, резкой критике был подвергнут функционализм. Выдвигались требования вернуть архитектуре сложность, отвечающую сложности и противоречиям жизни. Отрицание функционализма стало модной темой профессиональных журналов. В основе ревизии его принципов была полемика с положениями «Афинской хартии». При этом забывалось, что наряду с позициями, механистически трактующими развитие города, она заключает в себе ряд принципов по-прежнему актуальных. Ее основные требования — как, например, необходимость подчинения частных интересов общественным, в условиях капиталистических стран и сегодня остаются мечтой. Вместе с критикой «функционалистической доктрины» распространились декларации против «засилья прямого угла». Расширение морфологии архитектурного языка трактовалось как «борьба нового с отживающим», а не как обогащение реальных возможностей.
Не останавливаясь на ниспровержении доктрин рационалистической архитектуры 1930—1950-х годов, часть архитекторов подвергла сомнению самую плодотворность рационалистического метода в архитектуре. Отчужденность труда рождает постоянное и неустранимое противоречие общественного и личного. Становятся эфемерными и исчезают ценности, имеющие значение для всех, на основе которых архитектор мог бы принимать свои решения. Никакие методы точных расчетов не могут помочь, если нельзя избежать субъективности и произвола в определении исходных данных. Осуществлению связи между отдельным объектом и городом в целом препятствует не только частная собственность на землю, но и отсутствие единых интересов и идей в «атомизированном» обществе, его непримиримый внутренний антагонизм.
Уже в 50-е годы стали признавать правомерным обращение современной архитектуры к опыту прошлого. В 1960-е годы оно стало частым явлением. Многие офисы, сооруженные в Италии, напоминают средневековые башни. В то же время при строительстве в исторических городах значительное внимание стали уделять органичности связи новых зданий со сложившимся окружением и памятниками зодчества. Ряд успешных экспериментов в этом направлении был осуществлен архитекторами Италии, Великобритании, ФРГ (где надо особенно отметить такую постройку, как ратуша в Бенсберге).
Специфичным для этого периода развития архитектуры капиталистических стран стало ее возвращение к своему собственному прошлому. Высокий Ренессанс не повторял то, что создавалось ранним Ренессансом, для древнегреческой классики было бы немыслимо повторение форм архаики. Но в 1960-е годы делались попытки возрождения экспрессионизма, создавались добросовестные подражания конструктивизму 20-х и функционализму начала 30-х годов, заимствовались формы стиля модерн. Переоценка исторического опыта усиливала пестроту, множественность средств выражения, немыслимую еще в 50-е годы. Погоня за новым часто подходила к грани снобизма. Артистичность самодовлеющего формотворчества оставляла равнодушными широкие массы.
Своеобразной реакцией на этот разрыв была «антиархитектура» американца Р. Вентури, его нарочитое обращение к банальности, отвергаемой «хорошим вкусом», иронически подчеркнутое им использование элементов эстетики «поп-арта». Отрицая установившиеся мерки, этот архитектор как бы «выворачивал наизнанку» модные приемы, пущенные в обиход Ф. Джонсоном и П. Рудольфом. Программное стремление отразить сложность и противоречия жизни претворялось в произвольную игру объемов и пространств. Трудно создать архитектуру на негативной основе пространственных эквивалентов социального хаоса и выявления неразрешимых внутренних конфликтов современной буржуазной культуры. Критический заряд антистиля Вентури был не более чем сардоническим жестом, но на умы архитектурной молодежи капиталистических стран он оказал немалое влияние (на первых порах проявившееся во множестве подражаний, вызывающе противопоставленных логике повседневности).
Идея жизнестроительной миссии архитектуры, не раз уже встававшая миражем, рождающим несбыточные надежды, в 60-е годы получила новое воплощение в так называемой «архитектуре контестации» или «защищающем планировании». Это движение, возникшее среди молодых архитекторов США, было направлено против элементов официальной градостроительной политики, ущемляющей права отдельных этнических групп — негритянских, пуэрториканских и др., подвергающихся дискриминации в американском обществе. Борьба велась с городскими властями, которые проводили расчистку трущобных кварталов близ центров городов лишь для того, чтобы повысить цену на земельную собственность. Освобождая территорию для спекулятивного строительства, оттесняли прежних жителей в худшие трущобы на окраинах.
Однако сторонники движения ставят задачу лишь заглянуть в «пружины архитектурного планирования», принимая как нечто неизменяемое устройство социального механизма, деталью которого эти «пружины» являются. Заботясь о территориальной целостности негритянских и пуэрториканских гетто, они не ставят вопроса по существу — о нетерпимости самого этого понятия, самой расовой дискриминации, порожденной структурой социальных отношений. Деятельность, заведомо устремленная к компромиссам, дает лишь материал для утешительных иллюзий, используемых как «социальный транквиллизатор» во взрывоопасных гетто. Отвлекая силы от наиболее острых социальных проблем, от подлинной социальной конфронтации, «движение» объективно служит на пользу той системе, отдельные действия которой оно подвергает критике.
Пытались «заявить себя» в архитектуре и антисоциальные группы американских хиппи, создавая из случайных материалов хижины, где сочетание куполообразных конструкций образовывало причудливо-сложные пространства. Концепция жизнестроительной миссии архитектуры получила здесь форму наивного гротеска. «Зомы» — так называли хижины, обшитые металлическими листами, содранными со старых автомашин, — объявляли «новым образом жизни». Как и заношенные джинсы, они были в числе атрибутов стихийного бунта американской молодежи против власти денег и сонного мещанского благополучия, против «истэблишмента» и его образа жизни, Но зомы, как и джинсы с поддельными пятнами грязи, вошли в моду; внешние атрибуты протеста были ассимилированы самим «истэблишментом».
На страницах профессиональных журналов конца 60-х годов соседствуют помятые жестяные листы зомов и полированный металл престижных зданий; структуралистские рассудочные построения и попытки средствами поп-арта и оп-арта зрительно опрокинуть логику, которая необходима для существования сооружения; смакование формы и фактур нарочито и агрессивно выступающего на первый план технологического оборудования и идиллические микропейзажи псевдояпонских садов; утонченный геометризм прозрачных структур из стекла и металла и столь же утонченные имитации примитивных форм анонимной народной архитектуры. И уже окончательно невозможным становится однозначный ответ на вопрос: так что же такое современная архитектура Запада?
Развитие формальных средств архитектуры шло в 1960-е годы быстро, как, вероятно, никогда еще за всю долгую историю зодчества.
Холодно-элегантные стеклянные призмы построек Мис ван дер Роэ уже не привлекали внимания; еще более мимолетной оказалась популярность модернизированного классицизма Стоуна и Джонсона. В конце 50-х годов казалось, что многое обещает начало нового пути: суровая обнаженность построек бруталистов, их сложные пространственные построения, которые должны были раскрыть индивидуальность неповторимого сочетания процессов в данном сооружении; внушительность массивных зданий Л. Кана, тонко связанных с классическими композиционными закономерностями; открытые для дальнейшего развития пространственные структуры К. Танге и «метаболистов». Разрозненные эксперименты, однако, не привели к образованию единого устойчивого направления. Смена течений, смена кумиров была стремительна, но не вела никуда.
Уровень формального мастерства архитекторов поднялся весьма значительно — неожиданны и смелы контрасты пространства, пластичность объемов достигает богатства, которое позволяет сравнивать их со скульптурой. Но индивидуализация облика и монументальность лишь обостряют противопоставление построек-уникумов окружающей среде, городам, которые задыхаются в нарастающем транспортном хаосе, характер которых нивелируется безликими напластованиями спекулятивного строительства.
Изощренные формы не несут больших идей. Между средствами и целью нет соответствия, как больше нет его между теоретическими концепциями и творческой практикой. Кризис целей, инфляция ценностей стали неизлечимыми недугами архитектуры капитализма 1960-х годов. Маньеризм, во всем внешнем блеске изощренного формотворчества, оттесняет традиции, заложенные прогрессивными мастерами предшествовавших десятилетий.
Было бы упрощением искать прямого соответствия между конкретными явлениями в архитектуре и социальной жизни общества. Но сложные, опосредствованные связи направляют ее развитие. В нарастающих противоречиях процессов, имеющих, казалось бы, чисто внутреннее значение для архитектуры, отражается неразрешимость главных противоречий капитализма. Кажется, что в сложных образах архитектуры 60-х годов возникают тревожные предвестия новых потрясений.



Добавить комментарий