Архитектурное творчество Микельанджело. Сборник статей. 1936
| Архитектурное творчество Микельанджело. Сборник статей |
| Издательство Всесоюзной Академии архитектуры. Москва. 1936 |
| 133 страницы, 89 илл. |
| Источник: tehne.com |
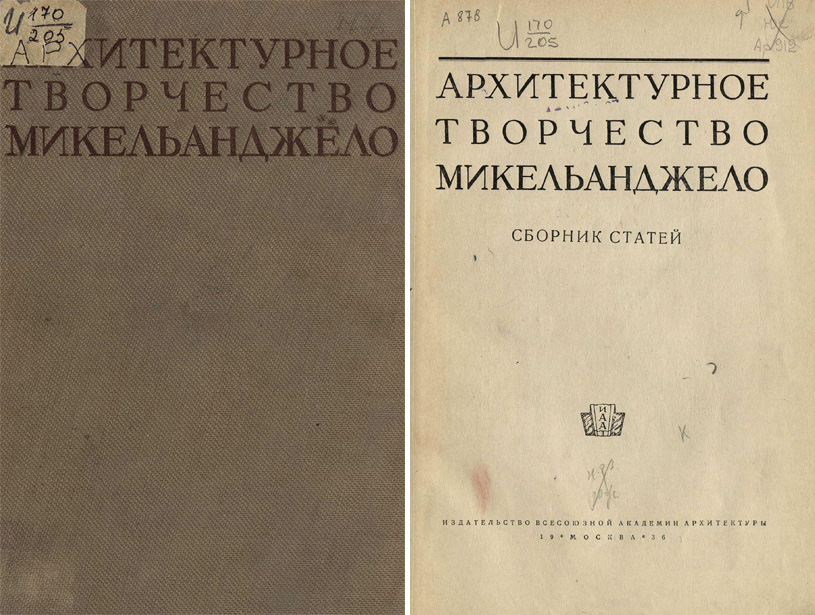
Введение
К. Тольнай. Микельанджело
К. Маковский. Архитектурные произведения Микельанджело
Э. Пановский. Плафон Сикстинской капеллы
А. Попп. Творческая история капеллы Медичи
К. Тольнай. План капеллы Медичи
К. Тольнай. Лестница Лауренцианской библиотеки
К. Тольнай. История купола собора св. Петра
К. Тольнай. Капитолий
Г. 3едльмайр. Композиция площади Капитолия
К. Тольнай. Porta Pia
Р. Соботта. Значение Микельанджело в истории архитектуры
P. Соботта. Отношение Микельанджело к архитектурной форме
К. Тольнай. Проблема стиля в архитектуре Микельанджело
Примечания редактора
Литература
Перечень иллюстраций
Введение
«После смерти Антонио да Сангалло, строителя собора св. Петра, папа предложил Микельанджело занять его место, но тот отказался, говоря, что это не дело его специальности, и так долго противился желанию папы, что тот должен был приказать ему взяться за эту постройку и прислал Микельанджело собственноручный рескрипт, дававший ему неограниченные полномочия». Это свидетельство Асканио Кондиви находит себе многочисленные подтверждения.
Микельанджело очень поздно пришел к архитектуре. «Michelagniolo scultore», называл он себя обычно. Скульптура была для него родным делом, к ней он чувствовал всегда непреодолимое влечение. Архитектурные начинания приносили больше огорчений и стоили непосильных забот дряхлому старцу, на что он горько жалуется в своих письмах. «Бог свидетель, — писал он в такую минуту отчаяния, — что я против воли, только благодаря настояниям папы Павла, взялся за постройку собора». Однако, как ни искренни эти признания, следует думать, что не одна только настойчивость папы сделала Микельанджело руководителем строительства собора. Архитектура издавна влекла его своим монументальным размахом. Он рано осознал, что только архитектура могла создать достойную оправу для тех грандиозных скульптурных замыслов, которые волновали его всю жизнь. Этим объясняется, что Микельанджело пришел к архитектуре, не отрекаясь от своего чисто пластического дарования.
Можно думать, что этот необычный путь к архитектуре навлек на архитектурное творчество Микельанджело особенные нарекания потомства. Художественная критика уже давно сняла свои обвинения с Микельанджело, как с творца Сикстинского плафона и луврских Рабов. В наше время вряд ли кто-нибудь примет всерьез упреки по адресу Микельанджело со стороны арбитра хорошего вкуса XVIII в., Франческо Милициа, уверявшего, что «произведения его холодны, жестки, исполнены чрезмерностей, мелочны, грубы и, что всего хуже, манерны» (с этими взглядами Милициа русский читатель познакомился лишь в 1827 г. по переводу Лангера). Между тем, до недавнего времени оценка архитектурного творчества Микельанджело не освободилась от воздействия классической доктрины. Под критикой понималось безоговорочное осуждение. Ею далеко не всегда руководило желание понять сущность и внутреннее своеобразие архитектуры Микельанджело. Эту критику вдохновляли итальянские и особенно французские классики, которые, отмежевываясь от барокко, считали Микельанджело виновным в порче хорошего вкуса. Отголоски этого протеста слышатся уже в беседах Бернини с Шантелу, в которых великий мастер итальянского барокко должен был выступать защитником своего гениального соотечественника. Из дневника Шантелу мы узнаем, что Бернини заметил однажды, что «Микельанджело впервые стал применять ордера, соподчиняя их друг другу, чего не встречается в памятниках древности, где имеются только ордера, расположенные друг над другом. На это я ему ответил, — пишет Шантелу, — что Микельанджело в поисках новизны и оригинальности создал, действительно, великие произведения, но что он ввел в архитектуру вольности (le libertinage) и был создателем картушей, маскаронов и раскрепованных карнизов, которыми он сам пользовался с большим искусством, так как прекрасно владел рисунком, но которыми не умели пользоваться его подражатели, не обладавшие достаточными познаниями. На это Бернини возразил, что Микельанджело допускал раскреповки только в тех местах, где части здания показались бы слишком протяженными и походили бы на крепостные стены».
Теоретики XVIII в., кругозор которых был ограничен классической доктриной, не в силах были найти путь к пониманию архитектуры Микельанджело. В начале прошлого столетия, после того как романтики «открыли» Шекспира, Сервантеса, Данте и Микельанджело — скульптора и живописца, французский историк Даженкур и архитектор Гитторф продолжали свое наступление против Микельанджело, как создателя барокко в архитектуре. Но самым яростным противником Микельанджело оказался Шарль Гарнье, который выразил свое отношение к великому флорентийцу в крылатой формуле: «Я обвиняю Микельанджело в том, что он не знал языка архитектуры».
Пусть даже, с профессиональной точки зрения, эти упреки Гарнье будут признаны справедливыми. (Вспомним, Пушкин говорил, что Гоголь «плохо» пишет по-русски.) Но величие художественных исканий Микельанджело для нас теперь слишком очевидно, чтобы останавливаться подробнее на сопоставлении двух мастеров. Мы видим, с одной стороны, Парижскую оперу, величественный памятник мрачной поры эклектизма, с другой стороны — капеллу Медичи, купол собора св. Петра и могучие очертания гробницы Юлия II. Оперу Гарнье хочется отнести к области техники, науки и историко-художественной эрудиции. Архитектурные создания Микельанджело дышат полнотой подлинного образного мышления.
Мы чтим Микельанджело за то, что в своем архитектурном творчестве он не переставал мыслить как художник, что все его создания насыщены настоящей художественной образностью. Образность архитектуры Микельанджело, ее высокое идейное напряжение — вот что искупает его своеволие в обращении с грамматикой архитектуры, что делает для нас ценным каждое его произведение, каждый клочок бумаги, хранящий следы его творческих исканий.
Среди многочисленных писем современников, рисующих труды и дни Микельанджело, сохранилось несколько свидетельств того, как отчетливо он сам осознал свои пути и задачи. Отстаивая право художника мыслить образами в архитектуре и возражая на нападки доктринеров-академиков, он говорил, что «циркуль должен быть в глазах, а не в руке, ибо руки работают, а глаз оценивает» (Вазари).
Ссылка на человеческий глаз, как на высшего судью, сближает Микельанджело с другим великим мастером ренессанса, энтузиастом зрительного восприятия мира — Леонардо. Формула Микельанджело поучительно выдвигает то зрительное воздействие архитектуры, которое предавали забвению функционалисты всех времен. В ней можно расслышать возражения против эклектиков, которые, не доверяя художественному восприятию, возлагали надежды на обмеры старинных зданий и подражание античным пропорциям.
Работая в архитектуре, Микельанджело никогда не отрекался от своего исконного предрасположения к скульптуре. Порою он пытался дать ему теоретическое обоснование. При всей субъективности его рассуждений они сохраняют бесспорную ценность, как свидетельства глубокой органичности художественных воззрений мастера.
«Среди бумаг Вилламена сохранилось письмо Микельанджело к Лоренцо Медичи, ответ на его вопрос, какому из двух мастеров следовало поручить постройку флорентийской библиотеки: живописцу Вазари или скульптору Амманати... Микельанджело сообщал в письме, что оба они были его друзьями, но что даже при равенстве их познаний в архитектуре следовало дать предпочтение скульптору перед живописцем, что он советует обратиться к Амманати потому, что архитектура объемна (l’architecture était un relief) и что создание объема входит в задачи скульптора, тогда как живописец в своей работе ограничивается только видимостью объемов» (Шантелу).
Он возвращался к той же мысли в своих рассуждениях о декоративном убранстве зданий. По словам Бернини, «Микельанджело часто говорил, что статуи служат таким прекрасным украшением, что если бы одна комната была украшена ковром, шитым по бархату золотом, а в другой находилась только прекрасная статуя, то эта комната показалась бы украшенной с царственным великолепием, тогда как первая — монашескою кельею (come una stanza di monaca)».
Это скульптурное восприятие архитектуры толкало Микельанджело к уподоблению здания живому организму, тому человеческому телу, которое для художника-гуманиста было всегда высшей и благороднейшей задачей искусства. «Можно с уверенностью утверждать, — говорил он, — что архитектурные члены соответствуют человеческим. Этого не поймет тот, кто никогда не передавал и не умеет правильно передать человеческое тело»... В последней фразе слышится невольное раздражение, как бы предвидение протеста сторонников автономной архитектуры.
В другой раз тот же ход мыслей породил законченный образ. В одном из своих писем 1525 г. он набросал целую программу в этом роде: «Что касается до колосса вышиною в 40 локтей... — пишет он, — то я предполагал его изобразить сидящим, нижнюю же часть его сделать полой и там поместить цирульню. Этому колоссу следует дать в руки рог изобилия, который служил бы дымовой трубой. Череп и члены этой фигуры я также оставил бы полыми. Им также можно было бы найти применение. На площади неподалеку живет мой друг, огородник, который сказал мне под секретом, что устроил бы там прекрасную голубятню. Мне же пришла в голову еще другая мысль (правда, тогда пришлось бы значительно увеличить размер фигуры): построить колосс из отдельных частей в виде башни. Тогда голова колосса служила бы колокольней церкви Сан Лоренцо... В ней поместились бы колокола, звуки лились бы из его уст, и в праздничные дни, когда чаще всего звонят в большие колокола, казалось бы, что это колосс вопит о пощаде».
Нам несколько трудно представить себе, как выглядело бы подобное сооружение. В его осуществимость, видимо, не особенно верил сам мастер. Однако при всем нескрываемом юморе, в духе Раблэ, с которым создатель «Страшного суда» развивает свою фантазию, в ней сказался тот круг представлений, который никогда не оставлял Микельанджело-скульптора в его работе над архитектурой.
Другой рассказ Кондиви несколько напоминает предание о древнем мастере, желавшем придать Афонской горе человеческий облик. «Однажды, проезжая верхом, Микельанджело увидал гору, высоко вздымавшуюся над округой. Его охватило желание изваять ее всю, превратить ее в колосс, который был бы виден издалека мореплавателям. Он выполнил бы свою затею, если бы у него было время и если бы ему это позволили».
Эти замыслы, конечно, принадлежат к области художественных утопий. Но они ясно характеризуют тяготение Микельанджело к повышенной образности и выразительности архитектуры. Тектоника согласных ритмических форм и соотношений была глубоко чужда Микельанджело. Статика архитектурного сооружения впервые наполняется у него трепетом напряженного драматизма, которого не знали ни гармонический дух греков, ни наивная чистота гения Брунеллеско.
Раскрытие идейного смысла образов Микельанджело принадлежит к трудным задачам. При исключительной широте творческого размаха мастера, исследователь неизменно рискует прочесть в созданиях Микельанджело идеи и переживания своей эпохи. Этой опасности не избежал и Ромэн Роллан в своей известной биографии-романе. Конечно, книга его значительно приблизила личность великого флорентийца к нашему пониманию, но ради этого Роллану пришлось наделить своего героя душевной смятенностью современного человека, сообщить ему бетховенскую трагичность Жан-Кристофа.
При всем том нельзя отрицать, что через творчество Микельанджело проходит несколько лейтмотивов, которые не потеряли своего глубокого значения до наших дней. Среди этих ведущих тем его творчества следует особо выделить тему борьбы — трагическую тему, которая никогда не оставляла его ни в жизни, ни в искусстве. В сопоставлении с аморализмом и аполитичностью Леонардо личность Микельанджело становится нам особенно близкой своей пламенной, почти дантовской политической страстностью. В дни мрачной реакции, нависшей над Италией, Микельанджело хранил республиканские идеалы и, как непримиримый враг поработителя Флоренции, Козимо Медичи, горячо отдавался делу защиты родного города. «Цезарь был тираном своей родины, — говорил он своим друзьям не без намека на современные события, — Брут и Кассий убили его по заслугам; ибо тот, кто убивает тирана, убивает не человека, а зверя во образе человеческом. Тиранам неведомо естественное чувство любви к ближнему. Им чужды человеческие чувства — следовательно, это не люди, а звери...»
Погрудный портрет Брута, созданный Микельанджело в 30-е годы, говорит об его живом интересе к личности прославленного поборника римской свободы. Эти интересы были, вероятно, навеяны кружком политических изгнанников из Флоренции, с которыми он встречался в Риме. Предполагают, что в образе Брута он представил одного из этих флорентийских изгнанников — республиканца Джанотти. Правда, мы знаем, что Микельанджело не мог преодолеть отвращения к тираноубийству, но это не умаляет исторического значения его политических интересов. Среди мастеров итальянского ренессанса, которые в силу своего цехового положения были отстранены от непосредственного участий в политической борьбе, Микельанджело был едва ли не первым художником-гражданином, мастером, который не боялся свои величайшие замыслы насыщать страстью политических симпатий. В этой связи не лишено глубокого смысла, что Домье был однажды назван «Микельанджело XIX века».
Но политические страсти ничуть не сужали кругозор жизни и творчества мастера. Жизненная борьба Микельанджело выходит за пределы конфликтов художника со своими заказчиками-папами и становится прообразом грядущих столкновений великих мастеров с косной буржуазной средой. Сила и правдивость созданий Микельанджело перерастает тесные границы эпохи. Пленники гробницы папы Юлия были задуманы в согласии с библейским текстом. Но в сознании потомства они приобрели более широкое значение, и нет ничего удивительного в том, что человечество долго будет черпать в этих образах вдохновение и силы для борьбы за жизненные идеалы, которые были еще неведомы Микельанджело. Капелла Медичи была задумана как памятник поражения освободительных стремлений поколения Микельанджело, но кто теперь думает о неудачах итальянских князей, созерцая архитектуру гробницы и могучие тела Авроры и Вечера? Может быть, эту историческую перспективу предугадывал и мастер, отказываясь от портретного сходства Джулиано и Лоренцо под предлогом, что через несколько десятилетий никто не будет знать, как они выглядели в жизни. В сущности, сходное перетолкование претерпевают в нашем сознании и архитектурные создания Микельанджело — купол собора св. Петра и Лауренциана. Языком архитектурных форм, могучей пластикой масс они рождают в нас чувство величавого жизненного ритма и влекут к заманчивым далям, которые, может быть, только смутно рисовались в воображении их создателя.
Эта титаническая сила Микельанджело, его скрытое бунтарство придают ему особое обаяние в глазах нашей эпохи. Однако, отдавая должное этим чертам Микельанджело, мы не должны забывать исторической правды — печального эпилога его борьбы. Последние десятилетия жизни и творчества мастера протекали в условиях торжествующей реакции, неудержимо наступавшей по всей Италии. Родная Флоренция, когда-то передовая демократия Западной Европы, становится оплотом феодальной знати, возглавляемой родом Медичи. Второе отечество Микельанджело, Рим, превращается в очаг контрреформации, в цитадель инквизиции, ордена иезуитов. Безрадостное зрелище распада гуманизма надорвало силы слабеющего мастера, исполнило его великой скорби, гнева и отчаяния. «Кругом царят позор и преступление», восклицает он устами своей «Ночи», мечтая, как о опасении, заснуть и не пробуждаться.
Сопротивление эпохи в конце концов одержало победу над Микельанджело. Последний гений ренессанса, в прошлом приверженец гуманизма, создатель величавых образов Давида и Моисея, должен был смирить свое бунтарство. Старческие годы художника, годы его архитектурного творчества прошли под знаком отречения от юношеских идеалов. Приверженец платоновской философии, Микельанджело оказывается во власти христианского мировоззрения и под влиянием этих чувств предлагает главе ордена иезуитов Игнатию Лойоле свою помощь в сооружении того самого храма Джезу, в котором впоследствии Виньола положил основы церковной архитектуры барокко.



Добавить комментарий