Буржуазное общество и культура. Кукаркин А.В. 1970
| Буржуазное общество и культура |
| Кукаркин А.В. |
| Политиздат. Москва. 1970 |
| 416 страниц |
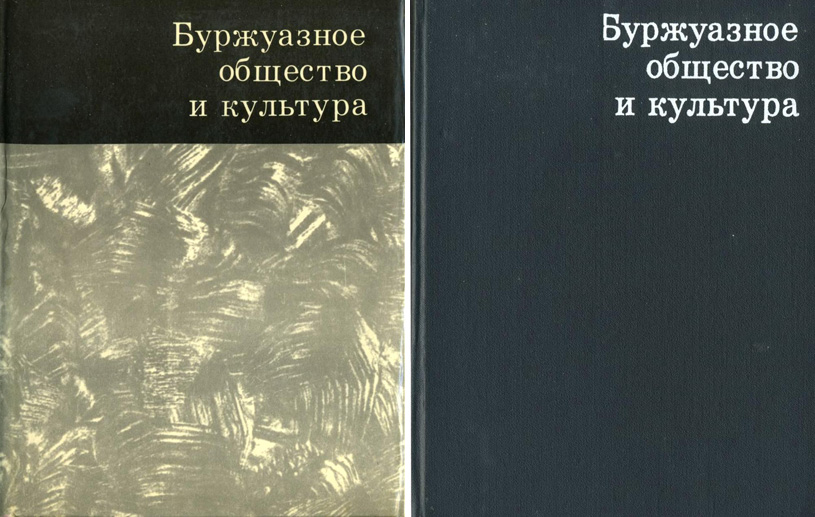
Книга старшего научного сотрудника Института философии АН СССР А.В. Кукаркина «Буржуазное общество и культура» написана в жанре документальной публицистики. В ней приводятся сопровождаемые авторскими комментариями статьи и высказывания зарубежных деятелей, манифесты и другие материалы, в том числе многочисленные фотоиллюстрации. Эти документальные свидетельства в совокупности создают широкую панораму современного состояния различных областей духовной жизни капиталистического мира, протекающей под сенью монополий. Для наглядности большая часть документов выделена набором в две колонки.
Образ среди фактов (вместо предисловия)
Парадоксы цивилизации
«Тройственная революция»
«Золотой век или Рабство?»
Факторы противодействия
«Охота за умами»
Образование — зеркало системы Постскриптум
Судьбы литературного «нинизма»
Два взгляда на один предмет
От бунта до «нинизма» — и наоборот
«Дрожащие от холода слова»
«Белокурые херувимы смерти»
Комиксы — аргументы «за» и «против»
«Меценаты» и пекари
Постскриптум
«Совесть в искусстве»
Признание перемен
На дискуссии в Нью-Йорке
«Миссия затемнения»
«Ошибка против логики»
Пантеон и Биржа
«Сын беса и мрака»
Эффект эха
«Зеркала отчаяния»
Оборотная сторона модели
Постскриптум
Десятая муза или десятая жертва?
Чарли Чаплин объявляет войну Голливуду
...А Дэррил Занук объявляет войну коммунизму
Постскриптум
В лабиринтах американской киностолицы
«Новые богатства, новые сомнения»
Противоречия видимые и подлинные
«Обходный маневр Голливуда»
Круг замыкается
Скованные одной цепью
«...Не кровь — лишь цвет крови!»
...И доллар, и цвет доллара
«Остановите печать!»
Показания «дружественного свидетеля»
Постскриптум
Необходимые дополнения
«Давайте начнем с денег»
Посыльные империализма
Еще несколько ответов «дружественному свидетелю»
«Телекратия»
Осознание силы
Диапазоны власти
Новый Кандид
Постскриптум
Фокусирующий калейдоскоп
«Стратегия желания»
Продолжение разговора
Реклама рекламе
Реклама рекламодателям
Постскриптум
Хорошо сказанная ложь
Рыночная магия
«Большой обман»
Торговцы иллюзиями
Культура духовных наркотиков
«От шести вечера до полуночи»
«Досуг»
«Время, которое принадлежит нам»
«Как спасаются от скуки»
«Наркотики»
«Кто за цивилизацию?»
Постскриптум
Единство в многообразии
«Мыслители и казначеи»
Спирали инволюции
«Вся суть в средстве»
Постскриптум
Вся суть в содержании
Лицо «массовой культуры»
«Возможно ли сопротивление?»
«По ту сторону добра и зла»
Дегуманизация искусства
«Сделка»
«Социальное самоубийство»
Заключение
Указатель источников
Образ среди фактов (Вместо предисловия)
Я представляю себе, как женщина древнего Египта (ибо то, о чем идет речь, возникло еще на заре цивилизации) обращается к одному из правивших тогда казначеев.
— Мне пришло в голову,— говорит она,— что я могла бы найти лучшее применение для этих денег, чем отдавать их тебе. Ребятишкам совсем носить нечего, да и мужу новый инструмент нужен.
Казначей, как никто другой,— человек практичный. Ему понятна логика поступков, но ему недоступна логика обоснования их необходимости. У него нет готового ответа женщине. И он, к великому своему удивлению, обнаруживает, что ему необходим человек, который может создавать теории; иначе говоря, ему необходим мыслитель. Это открытие, несомненно, не доставляет ему удовольствия, ибо казначеи всегда склонны считать, что для того, чтобы управлять делами людей, не требуется особого интеллекта.
Казначей встревожен; спор с женщиной, а еще более ее отказ платить налог вынуждают его отправиться на поиски мыслителя, и он находит его либо на рыночной площади (как Сократа), либо на горе (как Моисея). Мыслитель занят вопросами мироздания или размышлением о сущности бытия и многое уже познал.
— Странный случай произошел со мной сегодня утром,— говорит казначей и рассказывает мыслителю о разговоре с женщиной.
Мыслитель некоторое время размышляет, а затем говорит:
— Сказать по правде, мне думается, эта женщина права. Для нее действительно важнее одеть ребят и купить мужу лопату, чем отдать тебе налоги.
Казначей пристально разглядывает мыслителя, стараясь скрыть все возрастающую тревогу.
— А что бы ты сказал,— говорит он медленно,— если бы я назначил тебе, скажем, десятую часть тех денег, что платит эта женщина? Смог бы ты тогда объяснить ей, почему она обязана их платить?
Мыслитель снова размышляет.
— Возможно, — продолжает казначей,— найдутся и другие, которые не прочь поспорить вместо того, чтобы платить налоги. Что если я тебе предложу и с их денег десять процентов?
Теперь наступает очередь удивляться мыслителю, ибо он обнаруживает, что обладает талантом, который может приносить ему доход. Предложение казначея может показаться мыслителю вполне невинным или по крайней мере выгодным. Однако весьма знаменательно, что ни Сократ, ни Моисей не пошли по этому пути.
Теперь предположим, что все происходит несколько иначе: мыслитель, придерживаясь своей первоначальной точки зрения, отправляется к женщине и объясняет ей, почему она была права.
— Прекрасно! — говорит она. У тебя это выходит даже убедительнее, чем у меня!
В этом случае мыслитель связывает свою судьбу с судьбой тех, у кого он не получит денёг. Зато он получит удовлетворение от того, что помогает людям, открывая им истину. И если таким образом он становится своего рода руководителем масс, это означает, что он претворяет в жизнь философию в ее наиболее прекрасной и универсальной форме.
Что остается делать казначею? Вместо того чтобы нанять мыслителя и стать его хозяином, он обнаруживает, что вот-вот станет казначеем у мыслителя. Вся система сбора налогов оказывается теперь в опасности, поскольку мыслитель вместо того, чтобы объяснять людям, почему они должны платить налоги, занят обоснованием весьма убедительных доводов, почему они не должны этого делать. Так как мыслитель отказывается думать за деньги или (что почти одно и то же) вообще не думать, необходимы более крутые меры. И тогда казначей решает порвать ту связь, которая установилась между мыслителем — по крайней мере данным мыслителем — и остальной частью общества. Этого можно достичь разными путями: мыслителю можно отказать в признании, как Моисею, бросить в тюрьму, как Галилея, уничтожить, как Сократа.
Обычно же на него натравливают других мыслителей, нанятых для этой цели казначеем... Проявившего упрямство мыслителя объявляют еретиком. Он и есть еретик, ибо ересь — это не что иное, как использование интеллекта с целью помешать сбору налогов.
Если это определение покажется сомнительным, вспомните о том, что одна и та же доктрина считалась ортодоксальной в одну эпоху и еретической в другую. Более того, иногда противоречащие друг другу доктрины, из которых одна обязательно должна была быть истинной, одновременно считались еретическими. Следовательно, еретичность доктрины определяется не ее содержанием, а тем, насколько она затрагивает казначеев.
Как показывает история, существуют степени еретичности. Так, например, аббат де Прад, написав в январе 1752 г. свою знаменитую диссертацию «Jerusalem Coelesti», рассчитывал получить степень доктора богословия. Вместо степени доктора богословия он добился того, что его объявили еретиком всех степеней, а положения его диссертации — «ложными, необдуманными, направленными во вред богословам католической церкви, злонамеренными, греховными, оскорбительными для благочестивого уха, ошибочными, богохульными, еретическими, материалистическими» и т. д. Обнаружив, что он достиг всех степеней одновременно, благоразумный аббат удалился в изгнание и кончил свои дни каноником церкви.
Каким же образом де Прад умудрился вложить так много злонамеренного в одну докторскую диссертацию? Все дело в том, что аббат позволил проникнуть на страницы своей работы философии Джона Локка; более того, он последовал за Локком и избрал его путь познания мира. А между тем все положения философии Локка, включая даже те, в которых он отдает дань религии, неопровержимо доказывали одно : феодальные порядки и феодальные общественные институты более не заслуживают того, чтобы ради них собирали налоги.
Отсюда вытекают два разных толкования ереси. Существуют ереси просто злонамеренные, греховные, оскорбительные для благочестивого духа; в их основе лежит доктрина о том, что сбор налогов противоречит нравственным устоям. Но есть и другие ереси — богохульные, материалистические, направленные во вред богословам (а это значит во вред и всем мыслителям),— в основе которых лежит утверждение о том, что нужно либо заменить существующих казначеев другими, либо уничтожить те общественные институты, которым они служат.
Если взгляды правоверных оправдывают, а взгляды еретиков подрывают идею сбора налогов, то каково же соотношение между их противоположными доктринами и истиной? Ответ на этот вопрос зависит от того, в каком состоянии находятся казначеи и существующие общественные институты — переживают ли они расцвет или упадок.
В период расцвета общественные институты (а следовательно, и казначеи) могут позволить себе роскошь сделать истину достоянием общественности. «Ибо,— говорит Гоббс,— та истина, которая никому не мешает и не противоречит ничьим интересам, желанна для всех». В период же упадка общественные институты (а следовательно, и казначеи) не могут допустить, чтобы истина стала общим достоянием, и пускают в ход подкуп и принуждение для того, чтобы скрыть правду. Это приводит к тому, что в таких условиях некоторые истинные суждения влекут за собой наказание, в то время как некоторые ложные суждения приносят почет и славу.
Когда общество находится в состоянии распада и старое с отчаянием обреченного вступает в борьбу с новым, большинство истинных суждений неизбежно влечет за собой наказание, а большинство ортодоксальных суждений оказывается ложным. Так возникает противоречие, столь же очевидное, сколь и курьезное, между действительной картиной мира и той картиной мира, которую по заказу казначеев создают мыслители.
Более того, процветает эксплуататорское общество или нет, в его недрах всегда вызревают идеи, которые наносят ущерб правящему классу именно тем, что правильно его описывают...
Мыслители, которые призваны дать правильное и систематическое описание природы вещей, в результате попадают в весьма своеобразное положение. В процессе познания мира мыслители учатся делать правильные выводы из тех или иных явлений и совершенствовать методы исследования. В то же время на основе горестных наблюдений или печального опыта они убеждаются в том, что некоторые истинные суждения неизбежно влекут за собой наказание. Так мыслитель запутывается в противоречиях: чтобы придать убедительность своим суждениям, мыслители должны держаться как можно ближе к истине; в то же время они должны оставаться достаточно далеко от нее, чтобы обеспечить свою безопасность...
В результате требования научного исследования настолько прочно переплетаются с соображениями, диктуемыми экономическими интересами, что только к концу жизни до ума мыслителя, отравленного равнодушием и трусостью, привыкшего в течение стольких лет обманывать старых и вводить в заблуждение молодых, может быть, дойдет простая истина: в основе успеха всякого ученого, призванного объяснять события, профессора любой науки лежит страх перед правдой.
Такими предстают перед нами мыслитель и казначей в трудные времена разобщенности и вражды. Казначей запугивает, а мыслитель обманывает.
По своей природе и по действиям они страшно далеки от гармоничного единства, в котором бы мы желали их видеть. Они даже далеки от примитивного сотрудничества, столь необходимого для разрешения проблем, волнующих человечество.
Все мы — и вы и я — мыслители. Мы знаем (и я надеюсь, хорошо знаем), что это значит. Но что мы можем с этим поделать?
Ну что же, так как между мыслителем и казначеем происходит в какой-то мере состязание в силе, мы должны с удовлетворением сделать следующий важный для нас вывод: мыслители отнюдь не бессильны. Они действительно часто кажутся бессильными и еще чаще ведут себя соответствующим образом. И все же они не бессильны.О силе казначеев, скромности ради, не говорят, но она столь очевидна, что говорить о ней, может быть, и нет необходимости. Сила казначея объясняется поразительно просто: казначей кормит мыслителя. Сила же мыслителя поддается оценке гораздо трудней, ибо она то переоценивается льстецами, то недооценивается циниками.
Сила мыслителя заключается не только в том, что он обладает талантом, который может приносить ему доход. Она заключается также и в том, что, хотя он не может обойтись без казначея, ему не обязательно необходим тот казначей, с которым он связан в настоящее время. Более того, от него во многом зависит замена одного казначея другим, потому что именно мыслитель определяет ответ на вопрос: почему следует платить налоги? Иногда для этого оказывается вполне достаточно простого переосмысления уже известных положений. Кальвин, например, достиг этой цели, восстановив первоначальное содержание христианского вероучения времен Августина.
Вот почему иногда можно наблюдать, как захудалый профессоришка, у которого и гроша нет за душой, ставит в тупик и сбивает с толку сильных мира сего.
Но еще более сильным становится мыслитель, если он просто остается честным ; в этом случае он обладает даром познания и объяснения действительной сути вещей. Если к тому же он еще и талантливый исследователь, каким и должен быть, он познает сам и может объяснить другим истинную сущность событий и ход их развития. Иными словами, он обладает той совершенно исключительной властью, которую дает человеку знание,— он может не только описывать ход событий, но и указывать средства, с помощью которых люди могут управлять им. Правда, эта власть может и не обеспечить ему победы, но без нее вообще не может быть речи о чьей-либо победе.
Приведенный отрывок из работы «Мыслители и казначеи» американского философа Берроуза Данэма (на протяжении долгого времени он возглавлял кафедру Темпльского университета в Филадельфии) может показаться несколько упрощающим общую картину расстановки социальных сил в эксплуататорском обществе: здесь пассивна роль «плательщика налогов» — народа, хотя именно он осуществлял и осуществляет революции; влияние эксплуататорского общества на творческую интеллигенцию, конечно, не исчерпывается экономической зависимостью и политическим прессом — оно включает в себя также столикие средства идейного воздействия. Но ведь это только отрывок... В этой и других своих работах Данэм раскрывает и особое значение системы воспитания в семье, в учебном заведении, и колоссальную роль печати, телевидения, кино, и влияние религии, господствующих философских концепций, и воздействие на людей общей атмосферы, царящей в буржуазном мире с его моралью, нравами, ложными представлениями об идеалах и ценностях, с его нетерпимостью ко всяким прогрессивным движениям.
Кроме того, два главных действующих лица приведенного фрагмента — лишь обобщающие образы, способные наиболее концентрированно выразить мысль автора. А объектом его мысли выступает относительно частная, но вместе с тем многообразная и важная проблема: воздействие на духовную культуру государственно-монополистического капитала, правящего сейчас буржуазным обществом.
Учитывая все сказанное, исходные позиции Данэма не вызывают возражений; созданный же им собирательный образ может служить своеобразным эпиграфом к предлагаемой читателю книге «Буржуазное общество и культура», посвященной именно этой — частной и в то же время многообразной — проблеме.
Однако правомерно ли подобное использование образа, не подменяет ли он глубокое раскрытие темы поверхностными символами и ассоциациями, не нивелирует ли он сложные и подчас противоречивые факты действительности?
Думается, что нет. Тем более что данная книга стремится подать образ отношений «казначеев» и «мыслителей» главным образом через документ, который не знает иллюзий и потому может служить ориентиром, убедительным штрихом, типической чертой.
Синтез образности и документальности не только облегчает доступность исследования и тем самым расширяет круг читателей — он помогает также отсортировке необъятного и разнохарактерного материала, позволяет в отдельных случаях прибегать к выявлению общего через конкретное, частное, а тем самым добиваться строгой объективности. Вспомним знаменитые слова Гегеля, которые так любил повторять Маркс: истина конкретна.
Речь идет именно об объективности, а не объективизме. Документальность предполагает объективность как цель творческого исследования (полученный результат должен быть объективным), но отнюдь не как средство (любое из них активно и целеустремленно, а значит — тенденциозно). Объективизм никогда не благоприятствует анализу фактов, наоборот, он способствует их хаотическому нагромождению и дроблению, приводит к своего рода плюрализму. И если один кинорежиссер выразил кредо эстетики документальности в следующих словах: «Кино — это правда 24 раза в секунду», то это тоже лишь иносказательный образ — образ конкретности истины. Ведь каждый отдельный «кадр» — это одновременно и ракурс зрения, характеризующий видение мира данным художником. Последний вправе избрать для изображения тот или иной объект, то или иное явление действительности, вправе прибегнуть к той или иной метафоре, к тому или иному образу. Необходимо только, чтобы совокупность «кадров» правдиво отражала сущность определенной стороны жизни, избранной для художественного (или научного, например социологического) исследования. Причем не только отражала, но и воздействовала на эту сторону жизни.
Примером тому служит практика «художественного документализма», впервые разработанная в кино еще в 20-е годы замечательным советским мастером Дзигой Вертовым, затем по-разному интерпретированная в современном мировом кинематографе, в театре, в так называемой литературе фактов.
О степени распространенности документа в советской литературе говорят популярнейшие сочинения о Великой Отечественной войне (в частности, Сергея Смирнова). В области кино широкую известность приобрел, например, «Обыкновенный фашизм» М. Ромма. Документальные произведения, созданные даже в рамках одного вида искусства (скажем, в кино или театре), отличаются друг от друга; это отличие определяется характером материала и спецификой задач, которые ставил перед собой тот или иной автор. Иногда авторство их создателей проявляется уже в самом отборе и сопоставлении фактов, а когда нужно — в комментарии.
Таким образом, документ и образ, публицистика и исследование встречаются теперь в одном ряду, лицом к лицу не как противопоставление, а как взаимопритяжение и даже единение.
Ни одна эпоха не знала прежде такого интереса к документальному жанру, такой жажды подлинности жизненного материала.
Некоторые склонны искать причины этого явления во влиянии телевидения, бурное развитие которого привило людям вкус, привычку к прямому свидетельству, к факту. Если раньше, аргументируют сторонники этой точки зрения, языком самой жизни умели говорить только художники, то теперь этот язык с помощью массовых средств распространения информации (а квинтэссенцией их служит телевидение) может достигать «потребителей» при минимальном участии посредников.
В отличие от поборников унифицирующей силы «стиля телевидения» другие ссылаются на мощные отзвуки итальянского неореализма, сумевшего показать, что жизненные факты ярче, интереснее всяких выдумок.
Третьи усматривают в небывалой тяге нынешних читателей, зрителей, слушателей к достоверности и обоснованности частное проявление потребностей возросшего уровня научного мышления. Если, говорят они, за XIX в. закрепилось определение века пара и электричества, то XX должен быть назван веком науки, научно оснащенной мысли. Невиданный прогресс науки и приобщение к нему в той или иной мере большого числа людей, по мнению сторонников такой точки зрения, и обусловило интерес и преимущественное доверие к факту.
Применительно к книге «Буржуазное общество и культура» мы тоже можем сказать : нас интересуют прежде всего факты. А в роли главных «поставщиков» фактов и «свидетелей» рассматриваемых процессов выступят компетентные лица — философы, социологи, писатели, художники, кинематографисты, журналисты, публицисты, т. е. все те, кого Берроуз Данэм называет по совокупности «мыслителями». Их книги, исследования, статьи, высказывания, манифесты, наконец, художественные произведения представляют собой материал, незаменимый по своей убедительности. Тем более что отнюдь не все они «еретики», а некоторые даже занимают почетные места в иерархии буржуазного общества.
Что еще может рассматриваться в качестве фактов, раскрывающих характер культуры капиталистического мира? Ну конечно же всякого рода данные, исходящие непосредственно от «казначеев» : их собственные выступления, их официальные публикации и цифры (хотя мы не сторонники культа статистики: если она важный источник социологии, то лишь вспомогательный материал для философии, эстетики, художественной культуры).
Однако фактография — только одна сторона дела. Почти каждый факт и почти каждое явление в отдельности нуждаются в осмыслении; еще больше нуждается в нем совокупность этих фактов и явлений.
Помощи от «казначеев» в этом случае, естественно, уже ожидать не приходится. Что касается «мыслителей», то их взгляды на общий круг философских, социологических, искусствоведческих проблем подчас настолько противоречивы и так нарочито запутаны, что, несмотря на всю свою «свидетельскую» ценность, они часто требуют корректировки. Поэтому факты, составляющие ядро данного исследования, дополняются выводами и обобщениями, которые необходимы уже в силу того простого обстоятельства, что, приступая к исследованию данной проблемы, мы вступаем одновременно в область «обезмежанных» понятий. И «казначеи» и «мыслители» широко пользуются созданным ими же самими терминологическим хаосом: именно благодаря ему возможно существование большей части современной буржуазной мифологии.
Справедливо писал в книге «За пределами мифа», вышедшей в 1967 г., известный американский писатель Филипп Боноски: «Нужно мобилизовать все свое воображение, всю способность воспринимать комическое для того, чтобы сегодня серьезно анализировать понятия, созданные «холодной войной». Это — благоприобретенное искусство. Большинство людей, которые не в состоянии примириться с непримиримым, но не могут принимать решения, просто и не пытаются это делать: они дают возможность двум взаимно исключающим друг друга идеям сосуществовать независимо, ничтоже сумняшеся, они переходят с одной колеи жизни на другую, как того потребуют обстоятельства. Настоящий же мир начинается за пределами мифа. Он опасен именно потому, что реален. И лишь общение с людьми вселяет надежду, что с ним можно справиться».
Какие же понятия имеет в виду Боноски? В области политики, очевидно,— это «справедливый курс» Трумэна, «великое общество» Джонсона, «сформировавшееся общество» Кизингера и т. д. В области экономики — «народный капитализм», «предпринимательская демократия», «диффузия собственности»... Все эти броские и красиво звучащие формулы — мифы, за пределами которых начинается реальный мир с его войнами и классовыми битвами, законами джунглей и нетерпимостью всех видов.
В культурной жизни капиталистических стран мифов расплодилось не меньше. Практически они затрагивают все существенные стороны этой жизни и такие определяющие ее понятия, как народность и мировоззрение, критерии гуманизма, ценностей и свободы творчества.
Как в политике и экономике, так и в культуре западного мира современные мифы представляют собой обычные рекламные вывески империализма, которые переворачивают с ног на голову сущность этих понятий.
Только критически проанализировав принципы, основные правила культурной жизни буржуазного общества, возможно демистифицировать эту жизнь, а заодно разобраться в царящем там терминологическом хаосе.
Многие деятели на Западе склонны воспринимать нынешнее мифотворчество как «неизбежность странного мира». Об этом говорил, в частности, председатель комиссии по иностранным делам сената США Дж. Уильям Фулбрайт 25 марта 1964 г.: «Ввиду несовершенства человеческого разума существуют неизбежные расхождения между миром, как он есть, и миром, как люди представляют его себе. Пока наши представления достаточно близки к объективной действительности, мы можем разумно и целесообразно решать наши проблемы. Но когда наши представления не поспевают за событиями, когда мы не хотим верить во что-то, потому что это не нравится нам или пугает нас или просто слишком незнакомо нам, тогда разрыв между действительностью и представлениями становится пропастью и действия становятся неуместными и неразумными».
Конечно, нельзя, подобно Фулбрайту, объяснять расхождения между действительностью и представлениями о ней «несовершенством человеческого разума» (а значит, косвенно канонизировать их). Тем более что это не сулит радужных надежд.
Писатель Филипп Боноски, хотя он и не состоит в числе власть предержащих (а возможно именно поэтому), смотрит на мир оптимистичнее. Как мы знаем, он считает, что «можно справиться» не только с опасными представлениями, но и с опасными реальностями.
Но чтобы «справляться» с ними, надо их знать. Книга «Буржуазное общество и культура» поэтому ставит своей целью также ознакомление советских читателей с основными «представлениями» и «реальностями» культуры современного капиталистического общества.
В соответствии с этими целями факты, документы выстраиваются в книге для определенного панорамирования культурной жизни, протекающей под сенью «казначеев» — монополий. Они характеризуют основные области современной буржуазной культуры: науку, образование, литературу, изобразительное искусство, архитектуру, театр, музыку, кино, прессу, радио, телевидение, рекламу, а также наиболее распространенные философские, социологические и некоторые другие теории. Одновременно эти факты призваны хотя бы частично демистифицировать те искусственные построения, которые затрудняют познание и осмысление культурной жизни капиталистического мира.



Добавить комментарий